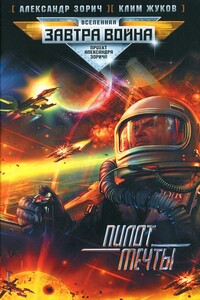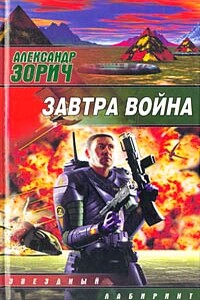Как пали сильные | страница 25
Полемизируя с Маркионом, Тертуллиан сформулировал свое кредо с кристальной ясностью: «Если ты пророк, то предскажи что–нибудь; если апостол, — проповедуй всенародно; если апостольский муж, — будь единодушен с апостолами; если ты только христианин, — веруй в то, что передано. Если ты ничто из этого, — я с полным правом сказал бы: умри.» [Тертуллиан, О плоти Христа, 162] Тертуллиану же принадлежит и знаменитая формула «верую, ибо абсурдно», трансцендирующая разум, философию, науку, вообще все когнитивные конвенции во имя веры, которая в точном и полном переводе звучит так: «И умер сын Божий — это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес — это несомненно, ибо невозможно» [Тертуллиан, О плоти Христа, 166].
Здесь мы видим все: и фидеизм («веруй в то, что передано»; «вероятно потому, что абсурдно»), и неприятие каких–либо иных верований («Если ты ничто из этого, — я с полным правом сказал бы: умри.»). Религиозная нетерпимость христианства, будучи легитимирована институционально, станет одной из главных социокультурных проблем христианского общества, но и вместе с тем одним из главных факторов удержания культурной целостности через жесткие критерии самоопределения индивида.
Итак, Тертуллиан был страстным апологетом христианства и непримиримым борцом с гнозисом. Парадоксально, что вторым столь же непримиримым ниспровергателем гностицизма был его современник Ориген, почти полная противоположность Тертуллиана. Ориген тоже принес жертву, но, в отличие от Тертуллиана, это была sacrificium phalli. Ориген самооскопил себя в возрасте около 25 лет. О мотивах этого поступка остается лишь догадываться, но важным следствием его стала рассудочность, интеллектуальная отточенность, изощренность богословских построений Оригена.
Немецкий религиовед В. Шульц, сравнивая этих мыслителей, сказал: «От Оригена он («он» здесь и далее Тертуллиан — А. З.) отличался тем, что каждое свое слово переживал в сокровеннейших недрах души; его увлекал не рассудок, как Оригена, а сердечный порыв, и в этом его превосходство. Однако, с другой стороны, он уступает Оригену, потому что он, самый страстный из всех мыслителей, доходит чуть ли не до отрицания всякого знания и свою борьбу с гнозисом чуть ли не доводит до борьбы с человеческой мыслью вообще.» [Schultz, 124].
Ирония судьбы в том, что, будучи во всем (кроме искренней христианской веры) между собой несхожи, и Ориген, и Тертуллиан не были официально причислены к числу Отцов Церкви. Более того, из–за своих неоплатонических воззрений Ориген был всенародно предан анафеме папой Александром I, а в 543 г. его «лжеучение» о переселении душ (метемпсихозе) было проклято 5–м Вселенским собором. Какой же культуротворческий смысл в том, что один мыслитель, ниспровергнувший Разум во имя Веры, осторожно объявляется «неканоническим» апологетом, а другой, пытавшийся утвердить Разум как инструмент обретения Веры, предается анафеме? Это при том, что оба были защитниками христианства, яростными борцами с еретиками–гностиками?