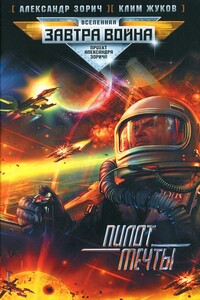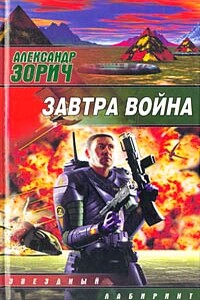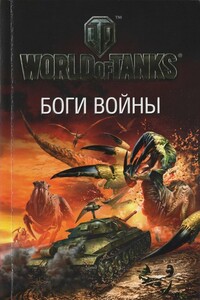Как пали сильные | страница 18
Совершенное Тело
Оппозиция этой идеальной категории Античности почти неведома [Фуко]. В каком–то смысле производящему потомство и дарующему наслаждениесовершенному человеческому телу противостоит архаическое «неоскверненное» тело весталки–девственницы и, возможно, пренебрежение любыми проявлениями телесности у философов–киников. Однако подлинный отказ от Совершенного Тела в пользу идеализированного духа появится только у христиан, испытавших воздействие иудейских и манихейских табу, в которых тело и душа, материя и дух противопоставляются с особым рвением.
Повсеместно распространенной в Античности является убежденность, что человеческое тело должно быть здоровым, красивым и, предпочтительно, молодым. Эстетические идеалы Античности являются общим местом как фундаментальных историко–культурных исследований (А.Ф. Лосев), так и популярных, но классических работ (И. Тэн). Отдельно останавливаться на них мы не будем. Заметим только, что Совершенное Тело здесь принимается нами в расширительной трактовке, с учетом шпенглерианских представлений о теле как ведущем символе аполлонической культуры вообще, то есть в горизонт этого понятия попадают также такие вторичные черты ментальности, как тяга к геометризму, гармоничной пропорциональности, спекулятивные представления о боге как об идеальной сфере и т. д. «Тенденция греков осмысливать мир как замкнутое в себе пространство, — указывает М. Бубер, — в котором человеку отведено постоянное место, нашла свое завершение в геоцентрической системе Аристотеля. Гегемония чувства и зрения (выделенный курсив мой — А. З.)… господствует и в его философии… при Аристотеле оптическая картина мира познает свою предельно четкую реализацию, как мир вещей, и человек теперь — вещь среди этих вещей мира…»[Бубер, 13]
Но тело — это не только форма, это еще и совокупность всех органов чувств, медиатор между разумом и космосом (для грека), и потенциально — между душой и Богом (для христианина), своего рода первичный и универсальный инструмент познания. Однако впоследствии христианину в теле познающем будет отказано, для движения души к Богу будут предложены иные, так сказать, траектории, а чувства будут репрессированы на века. Так, в «Исповеди» Августина находим методический отказ от удовольствий, доставляемых каждым из органов чувств, а главное — от эмпирического познания посредством таковых, отказ от тела познающего: «Кроме плотского вожделения, требующего наслаждений и удовольствий для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от Тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с помощью плоти: это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знания и науки. Оно… называется в Писании «похотью очей»