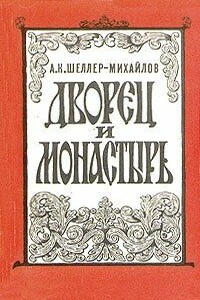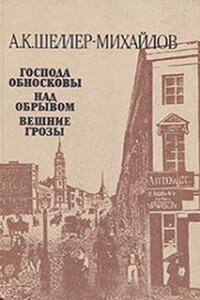Лес рубят - щепки летят | страница 68
Девушка вдруг вздрогнула: ей послышался какой-то шум, стук дверей, и через минуту перед нею стояли две знакомые, покрытые снегом, иззябшие фигуры матери и брата.
— Занесло, родные, снежком занесло? — пробормотала старуха. — Касатка-то наша ждала, не дождалася…
— Умаялись, — тихо проговорила Марья Дмитриевна.
Антон быстро разделся и подошел к сестре погреться у огня.
— Устал? — спросила сестра.
— Иззяб, — отвечал брат. — Мы ведь приехали.
— Чаем сейчас напою. Где были?
— У Белокопытихи! Измаяла, окаянная! — лаконически ответил мальчуган. — Конец! Не стану больше по городу шляться, пороги обивать.
— Не станешь? — вопросительно взглянула на него сестра.
— В школу бедных сирот упрячут, — ответил он.
— Скоро?
— Завтра.
Сестра вздохнула и быстро завозилась около чайника, стараясь скрыть слезы. Через пять минут все общество собралось около стола за чаем.
— Ну, детки, последний раз родительского чайку вечером напьетесь, — проговорила Марья Дмитриевна, наливая кружки и чашки. — В последний…
Она смолкла, глотая слезы и не поднимая глаз. Все как-то особенно притихли. В сердце каждого присутствующего слова матери отдались тупою, давящею болью. По-видимому, никто и ничего не терял, покидая этот смрадный подвал, где были пережиты годы голода, холода и брани пьяного отца, где слышались стоны больных детей, виделись трупы умиравших братьев и сестер, появлялось бледное, изнуренное до немой безропотности лицо матери, раздавались сиплые оханья и стоны старухи нищей. Каждому предстояла, по-видимому, лучшая участь: старшего брата завтра хотят свести в «школу бедных сирот», меньших брата и сестру отдадут в приюты, старшая сестра через два дня уходит на место, помощницею в приют, мать переезжает в более чистый угол… О чем же эта грусть? Но о чем тоскует, о чем вспоминает с замиранием в сердце эмигрирующий бедняк? Не о том ли строе жизни, к которому он привык! не о тех ли людях, с которыми он уладился, размежевался? Привыкать к новой обстановке, менять известное на неизвестное, сживаться с незнакомыми людьми — это так тяжело. Я не знаю такого нового положения, переходя к которому не вздрогнул бы человек, не поддался бы хоть на минуту той мысли, что не лучше ли остановиться и жить старою жизнью! Но если бы поглубже взглянуть на дело, то будущее наших героев не могло казаться им и лучшим. Голодные, они жили в своем углу, жили, вместе страдая, жалея друг друга, и пользовались тою свободой, которою может пользоваться человек в своем углу. Теперь им приходилось ломать свои характеры, свои привычки, свое настроение духа сообразно с уставами, приказаниями и целями других людей. Теперь их могут заставить говорить и молчать по воле других, их могут кормить и поить, когда это захочется другим; может быть, никто не захочет слушать и во всяком случае никто не заинтересуется их личными впечатлениями. Здесь страшный сон, виденный кем-нибудь из них ночью, вызывал сочувствие всех, — там опасная болезнь, серьезные тревоги за участь родных не вызовут никакого участия. Здесь редкие, но теплые поцелуи матери, братьев, сестер, — там сухие приказания начальства. Даже старуха нищая сидела печально, — она оставалась в том же углу, переходила как необходимая принадлежность этого угла в наследство новым жильцам, — но она не знала, каковы будут эти люди, напоят ли они ее чаем, дадут ли ей порою кусок хлеба, не станут ли ругаться, не обокрадут ли — потому что нет такого человека, которого не мог бы обокрасть его ближний.