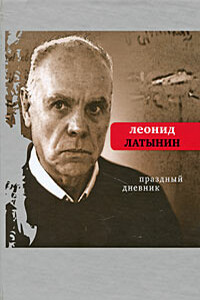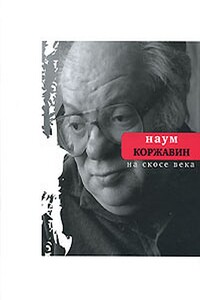Сияние снегов | страница 53
«Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо…»
Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
и свет во мне скорбит о поздней той поре,
как за моим столом сидел, смеясь, Мыкола
и тихо говорил о попранном добре.
Он – чистое дитя, и вы его не троньте,
перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
он нашу честь спасет в собачьих лагерях.
На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
а нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век – и дайте мне сойти.
Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
что в семени у нас – когда б хоть гордый! – чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты –
и физики молчат, и лирики молчат.
Чего бояться им – увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе, –
а в памяти моей, смеющийся, сидит он
и с болью говорит о попранном добре…
Нам только б жизнь прожить, нам только б скорость выжать,
нам только б сон заспать об ангельском крыле –
и некому узнать и некому услышать
мальчишку, что кричит о голом короле.
И Бога пережил – без веры и без таин,
без кроны и корней – предавший дар и род,
по имени – Иван, по кличке – Ванька-Каин,
великий – и святой – и праведный народ.
Я рад бы все принять и жить в ладу со всеми,
да с ложью круговой душе не по пути.
О, кто там у руля, остановите время,
остановите мир и дайте мне сойти.
(1977–1978)
Генриху Алтуняну
I
Стоит у меня на буфете
над скопищем чашек и блюд
с тоской об утраченном свете
стеклянный ногастик – верблюд.
– Скажи мне, верблюдик стеклянный,
с чего ты горюешь один?
– С того, что пришел я так рано
на праздник твоих именин.
Твой брат, что меня приготовил,
со мною к тебе не пришел.
Еще я от рук его тёпел,
да крест его крив и тяжел.
– Мой бедный стеклянный верблюдик,
зачем ты не рад ничему?
– Затем, что любимый твой братик
попал вместо пира в тюрьму.
Меня сотворили двугорбым
накапливать умственный жир,
а он был веселым и гордым
и с детства по-рыцарски жил.
Его от людей оторвали
и потчуют хлебом с водой,
а он, когда вы пировали,
всегда был у вас тамадой.
Какое больное мученье,
какая горбатая ложь,
что вот он сидит в заточенье,
а ты на свободе живешь…
Выслушивать жалобу эту
не к радости и не к добру,
и я подбегаю к буфету,
верблюдика в руки беру.
Каким ты был добрым, верблюдик,
и как оказался суров!..
Затем, что уже не вернуть их,
мне грустно от сказанных слов.
И он своей грусти не прячет,
и стены надолго вберут
те слезы, которыми плачет
стеклянный сиротка – верблюд.
II
У нас, как будто так и надо,
Книги, похожие на Сияние снегов