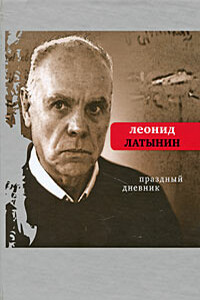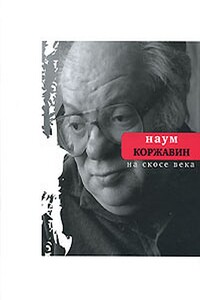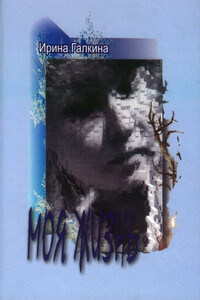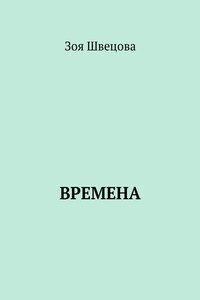Сияние снегов | страница 45
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.
Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.
На облаках бы – в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови как сладкую заразу.
О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин,
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень…
Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый Эдем –
над синим морем розовый шиповник.
Чуфут-Кале по-татарски значит «Иудейская крепость»
Твои черты вечерних птиц безгневней
зовут во мгле.
Дарю тебе на память город древний –
Чуфут-Кале.
Как сладко нам неслыханное имя
назвать впервой.
Пускай шумит над бедами земными
небес травой.
Недаром ты протягивала ветки
свои к горам,
где смутным сном чернелся город ветхий,
как странный храм.
Не зря вослед звенели птичьи стаи,
как хор светил,
и Пушкин сам наш путь в Бахчисарае
благословил.
Мы в горы шли, сияньем души вымыв,
нам было жаль,
что караваны беглых караимов
сокрыла даль.
Чуфут пустой, как храм над пепелищем,
Чуфут ничей,
и, может быть, мы в нем себе отыщем
приют ночей.
Тоска и память древнего народа
к нему плывут,
и с ними мы сквозь южные ворота
вошли в Чуфут.
Покой и тайна в каменных молельнях,
в дворах пустых.
Звенит кукушка, пахнет можжевельник,
быть хочет стих.
В пустыне гор, где с крепостного вала
обзор широк,
кукушка нам беду накуковала
на долгий срок.
Мне – камни бить, тебе – нагой метаться
на тех холмах,
где судит судьбы чернь магометанства
в ночных чалмах,
где нам не даст и вспомнить про свободу
любой режим,
затем что мы к затравленному роду
принадлежим.
Давно пора не задавать вопросов,
бежать людей.
Кто в наши дни мечтатель и философ –
тот иудей.
И ни бедой, ни грустью не поборот
в житейской мгле,
дарю тебе на память чудный город –
Чуфут-Кале.
1975
«Пребываю безымянным…»
Пребываю безымянным.
Час явленья не настал.
Гениальным графоманом
Межиров меня назвал.
Называй кем хочешь, Мастер.
Нету горя, кроме зла.
Я иду с Парнасом на спор
не о тайнах ремесла.
Книги, похожие на Сияние снегов