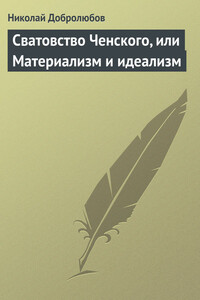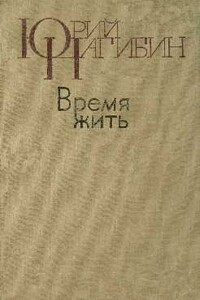Благонамеренность и деятельность | страница 13
Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повестей г. Плещеева, если бы видели, что он сам не возвышается над поклонением благонамеренности своих героев. Но мы заметили в нем и другое, более простое и правильное отношение к ним, в котором уже обнаруживается требование дела, а не одних желаний и надежд. Если г. Плещеев с преувеличенной симпатией рисует нам своих Костиных и Городковых, так это, конечно, зависит от того, что других, более выдержанных практически типов, в том же направлении, до сих пор еще не представляло русское общество. Что же делать? Недавно мы видели, как один из талантливейших наших писателей пробовал создание дельного практического характера и как ему мало удалось это создание, несмотря на то, что [он взял еще не русского человека и] дал ему такую цель жизни, которая представляла полную возможность наполнить его историю самой живой деятельностью…{18} Видно, еще не пришло время создания деятельных и твердых и в то же время честных характеров в нашей литературе. Но оно приближается: самые попытки доказывают это, как бы они ни были неудачны.
А с другой стороны, о том же самом свидетельствует и распространение иронического воззрения на всех «лишних людей», которым так много симпатизировали прежде.
Это ироническое отношение замечаем мы и во многих повестях г. Плещеева. Его герои вообще разделяются на три разряда; одни умирают от чахотки, – это лучшие (смотри выше); другие спиваются с кругу, – это тоже не совсем дурные; третьи устраиваются так себе, женятся на богатых, успешно служат и т. п., – это уж совсем пустые. Собственно говоря, если смотреть с общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: все бездельничают – не столько потому, что нельзя ничего делать, сколько потому, что ленивы и ничего не умеют, и все губят себя и тех, кто их любит, не по злости и не с намерением, а просто по невинности рассудка и по бесхарактерности. Поземцев (в повести «Призвание»), принадлежащий к последнему разряду, женится и губит свою жену, грубым образом заводя связь с какой-то кокеткой и делая жене бессовестные упреки; Буднев{19}, второго разряда, точно так же бестолково женится и губит свою жену тем, что влюбляется в какую-то девчонку, на которую тратится, скрывает от жены причину своих долгих отлучек, своей печали и, наконец, запивает горькую. Так точно Пашинцев (удостоенный автором даже несчастной смерти) расстраивает семейное счастие, принявшись «развивать» и привязавши к себе девушку, к которой сам ничего не чувствовал и которая была уже невестой другого; то же самое делает и Ивельев, принадлежащий к самому последнему разряду (в «Шалости»). Положим, что Ивельев это делает просто от безделья, из праздного любопытства, а Пашинцев с долею искреннего убеждения, что он принесет пользу девушке; но результаты-то одни и те же. Как видите, если сделать resume из повестей г. Плещеева, то выйдет, что хорошо толкующие и благонамеренные юноши не могут даже «гордиться тем, что не вредят». Костин, Городков, Заборский, правда, не делают того, что другие; но и они, по неуменью соображать свои средства с предстоящим им делом, тоже скорее способны вредить тем, кто их любит, нежели приносить пользу. Костин, например, совершенно безвинно сделался причиной страданий бедной женщины, полюбившей его, жены того помещика, у которого был он учителем детей: и беда была не в том, что она полюбила его, а в том, что он ничего не мог для нее сделать, не мог даже убежать никуда с нею, так как сам не имел ни пристанища, ни копейки, да и никакого таланта за душою.