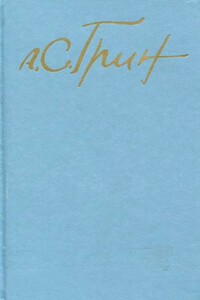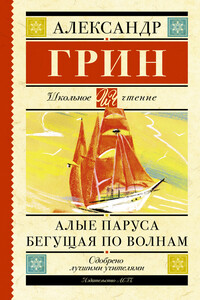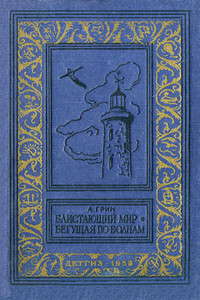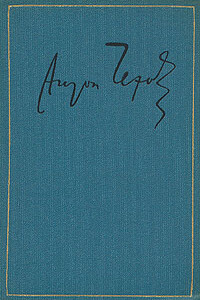Том 1. Рассказы 1906-1912 | страница 13
При всем отлете фантазии Грина от реальной действительности, он не просто «выдумывает» свою, не похожую ни на что страну, но создает некую обобщенную модель мироустройства, воспроизводящую в снятом виде основные социально-этические конфликты и противоречия современного автору общества. В этом мироустройстве есть классовые антагонизмы; есть богатые и бедные; есть «золото» и низменная борьба за обладание им; войны, вызывавшие у Грина глубокое неприятие даже в самом разгаре ура-патриотических и шовинистических настроений первой мировой, когда он печатался в журнальчике «Двадцатый век»; технические достижения, наступающие на человека, и природа, в которую он «отступает», чтобы выжить.
В этом мире есть неукротимое стремление личности к духовной свободе, но есть и государство, всей тяжестью своего карательного аппарата обрушивающееся на личность. Не случайно мелькает во множестве романтических произведений Грина образ тюрьмы, имеющей самую что ни на есть реалистическую основу («Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой…» – обрывает он на полуфразе «Автобиографическую повесть», вспоминая о своем севастопольском заключении). И не просто романтические выдумки – министр Дауговет в «Блистающем мире», который заявляет, что «никакое правительство не потерпит явлений, вышедших за пределы досягаемости», или следователь в «Дороге никуда» с «ускользающим взглядом серых глаз» и убежденностью, что «запирательство бесполезно»…
Если «реализм» Грина постоянно чреват романтизмом, то и последний ведь строится из реальных элементов, включенных в необычный – «закутанный в цветной туман» воображения – контекст. Статистик Ершов столь же социально конкретен, как и лавочник Сидор Иванович, но, в отличие от него, уже окружен всяческими волшебствами, которые, однако, лишь подчеркивают и заостряют жизнеподобную рельефность его фигуры. В 1908 г. в рассказе «Игрушка» герой «делается свидетелем отвратительной сцены» – двое мальчишек сооружают виселицу для котенка. Спустя год этот сюжетный мотив будет трансформирован рассказом «Окно в лесу», где заблудившийся охотник увидит ночью, сквозь стекло, как лесник развлекается в своей избе, протыкая иглой голову болотному кулику. Но в первом случае перед читателем вполне бытовое, реалистическое повествование (провинциальный город, мальчишки-«гимназистики», названные по фамилиям – Буланов и Синицын), недвусмысленное социальное звучание (после поражения первой русской революции даже дети хорошо знают технику казни через повешение и руководствуются «ясным и логическим убеждением: „Если можно людей, то кошек – тем более…“»). Во втором вся социальная конкретика устранена, а ситуация предельно романтизируется и обостряется (ночь; лес, полный опасностей; страх сбившегося с пути человека; его радость от того, что найдено жилье; его ужас при взгляде в окно; гнев, заставляющий его выстрелить прямо через оконную раму; и снова – отчаянье, уход в ночь, в лес, полный опасностей…).