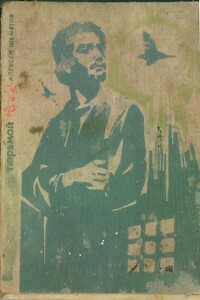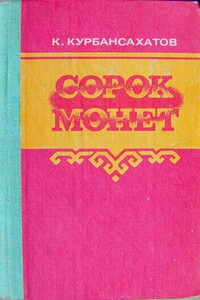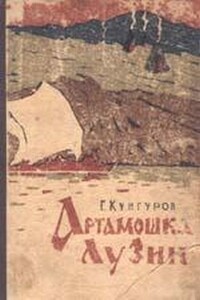Зимняя дорога | страница 69
Были, видимо, и другие инциденты. Они побудили Пепеляева сочинить что-то вроде присяги, под которой каждый солдат и офицер должен был поставить подпись: «Я поступил в дружину добровольно, по своему желанию, никто меня не заставлял. Буду помогать населению – русским, якутам, тунгусам выгнать большевиков и устроить для народа мирную свободную жизнь и порядок, какой захочет сам народ. Я должен быть честен, храбр, никого не обвинять, не грабить, не насильничать, не убивать того, кто добровольно сдает оружие. Исполняя службу, должен быть готов перенести всякие лишения, болезни, раны и самую смерть стойко и безропотно».
Скопировав этот текст в письме к жене, Пепеляев сопроводил его комментарием: «Видишь, Ниночка, как мы учим добровольцев и на каких условиях принимаем. Много, много труда и терпения нужно потратить, чтобы воспитать их, в особенности офицеров. Есть такие, что пришли, кажется, и пограбить».
И дальше, с обычной наивностью, помноженной на стремление обнадежить жену: «Теперь все уже прониклись моими идеями».
Прониклись, однако, не все, и, когда нельканцы понемногу стали возвращаться в свои дома, были изнасилованы три якутки.
Пока не установился зимний путь, спасти голодающих могли только тунгусы, а договориться с ними – только влившиеся в дружину якуты из армии Коробейникова. Пепеляев отправил их на поиски бывших товарищей по оружию.
«Посланные эти, – рассказывает Никифоров-Кюлюмнюр, – блуждали вдоль и поперек Станового хребта, разыскивая тунгусов, которые скрывались по горам, встревоженные гражданской войной. Тунгусы допускали их к себе с большими предосторожностями, иногда сначала оцепляли место стоянки, подходили с ружьями. Отношение было крайне недоверчивое. Потом лишь смягчались, увидев знакомых людей».
Мяса в одном олене приблизительно два с половиной пуда, сорок килограммов. На семьсот человек требовалось хотя бы пять-шесть оленей в сутки, а добыть удавалось единицы. Вишневский с оставшейся частью дружины уже приплыл на «Томске» в Аян с двадцатью тысячами пудов «интендантского груза», но из-за распутицы они с Куликовским не могли переправить продовольствие голодающим.
Недавно в Нелькане голодал отряд Карпеля, а минувшей зимой на телеграфной станции Алах-Юнь к западу от Охотска в еще худшем положении очутились члены Охотского ревкома и группа рабочих. Они направлялись в Якутск, но, обессилев от голода, сумели добраться лишь до этой станции.
Через полгода с противоположной стороны туда пришел батальон, высланный Байкаловым к Охотску. «Стекла в доме телеграфной конторы были выбиты, стены просверлены, точно буравом, пулями, труба обрушилась, – со слов кого-то из участников экспедиции рассказывает Строд о том, что они там увидели. – Во дворе валялись поломанные сани, куски кожи, обгорелые поленья, лошадиные скелеты, обрывки телеграфных лент, перепутанная проволока… Последние лучи заходящего солнца продирались сквозь чащу и заливали багровым светом оба домика на Алах-Юньской. Через зияющие дыры на месте бывших здесь окон они проникали в здание, куда уже зашли десятка полтора любопытствующих красноармейцев. Картину они увидели мрачную, полную смерти и ужаса. Пол, покрытый засохшей кровью, имел цвет ржавого листа железа. На полу старая обувь, лохмотья, когда-то бывшие одеждой, человеческие кости. А на стенах длинными, черными от осевшей на них пыли лентами висели сморщенные, высохшие человечьи кишки».