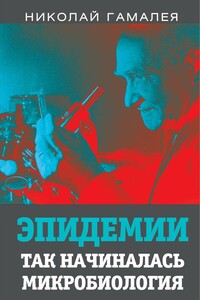Знание-сила, 2001 № 07 (889) | страница 24
Мог ли представить такую фантасмагорическую картину гонки основатель генетики Грегор Мендель, неспешно проводя год за годом в тиши монастырского садика свои опыты по выяснению законов наследования признаков? Финансирование гонки и участие в ней тысяч специалистов основаны прежде всего на вере, что в генетике и биологии сейчас нет ничего более настоятельного, нежели тотальная расшифровка нуклеотидного состава ДНК, что это напрямую может решить главные загадки и проблемы генетики и биологии. Как золотой ключик от потайной кладовой в сказке о Бу рати но.
Но упования на золотой ключик столкнулись с непредвиденной реальностью и парадоксами. Оказалось, что лишь 3-5 процента генома человека кодируют белки и, возможно, еще около 15-20 процентов участвуют в регуляции действия генов в ходе развития. Какова же функция и есть ли она у остальных фракций ДНК генома, остается совершенно не ясным. 1ены в геноме сравнивают с небольшими островками в море неактивных неинформационных последовател ьностей.
В составе хромосомной ДНК оказалось множество семейств факультативных элементов, которые повторены многие сотни и тысячи раз и заведомо ничего не кодируют.
К примеру, около 10 процентов всего генома человека составляет семейство так называемого Alu мобильного элемента. Невесть откуда этот Alu длиной в 300 нуклеотидных пар появился в ходе эволюции у приматов (и только у них). Попав к человеку, Alu чудовищно размножился до полумиллиона копий и причудливо расселился по разным хромосомам. Видимо, нет двух людей с одинаковым числом или положением повторов. Не исключено, что самоорганизующаяся целостная наследственная система может найти применение Alu, скажем, в регуляции действия генов. Однако, похоже, в эволюции геномной ДНК действует «принцип слоненка Киплинга» (условное название). Хобот у слоненка возник из-за его любопытства, желания узнать, что ест крокодил на обед. Слоненок вначале огорчился носу-хоботу, но потом нашел ему разные полезные применения. Так и многократные повторы возникают и меняются по своим внутренним молекулярно-генетическим законам, но их вариациям потом может найтись полезная функция в геноме.
Возникает вопрос, не привели ли во многом колоссальные условия по тотальному секвенированию геномов к сказочной ситуации – принести то, не знаю чего. Физикохимик и философ науки М. Полани в своей замечательной книге «Личностное знание» приводит поучительный пример из истории физики. В 1914 году Нобелевская премия по химии была присуждена Теодору Ричардсу за скрупулезно точное определение атомных весов, и с тех пор его результаты никогда не оспаривались. Однако после открытия изотопов, входящих в состав разных природных элементов в разных отношениях, ценность подобных расчетов резко изменилась. И в 1932 году известный атомный физик Фредерик Содди писал, что подобные измерения «представляют интерес и значение не больше, чем если определить средний вес коллекции бутылок, из которых одни полные, а другие в той или иной мере опорожнены».