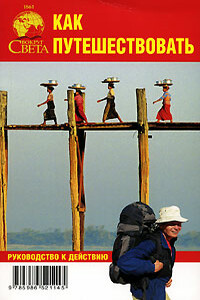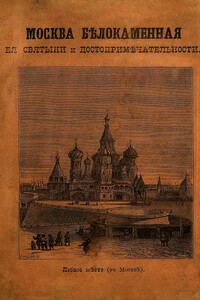Дорожный иврит. Путевая проза | страница 38
«Подвиг» — этим словом пользуются те, кто обязательно скажет: «…и погрома не произошло». А погром, несомненно, готовили — под коврами мусульманского зала Махпелы лежало заготовленное для него оружие, огнестрельное в том числе. То есть человек жизнь положил за жизнь своих детей, за жизнь единокровников Хеврона.
Я слушал и читал про это, пытаясь максимально отстраниться.
Отстраниться, правда, не очень получалось.
Я приехал сюда из города, пережившего не один и не два теракта, и счет погибшим в этих терактах идет на сотни. В метрополитене, которым я пользуюсь каждый день, уже на трех станциях памятные доски погибшим, цветы и иконки. Такая же доска с именами погибших и иконки в подземном переходе под Пушкинской площадью, по которому я иду после работы. И никуда не денешься, отношение к самому акту террора у меня есть. И согласиться с интонацией, с которой, например, уважаемая мною Майя Кучерская написала в 2010 году про чеченскую террористку-смертницу, взорвавшую вместе с собой людей на станции метро «Лубянка»: «умерла от отсутствия любви», мне трудно, хотя, возможно, она и права. Но той степени отстраненности, которая нужна для вот такого суждения, у меня нет. И быть не может. В сложившейся ситуации я, как и все мои домашние, как любой из моих московских друзей, соседей, просто жителей или гостей моего города, был включен в число ее потенциальных жертв. И вот это обстоятельство лишает нас права на индивидуальный выбор. То есть даже если я буду вот таким сверхотзывчивым гуманистом (или христианином), готовым согласиться на свою смерть во имя разрешения мировой несправедливости, то у меня, как у того же «гуманиста», нет прав согласиться на смерть сидящих рядом со мной в вагоне метро. Их смерть для меня как раз увеличивает массу этой «мировой несправедливости».
То есть мои суждения о Гольдштейне будут, возможно, выглядеть цинично-прагматичными, полностью подчиненными логике внешних противостояний.
Так вот, относительно деяния Гольдштейна как подвига — погрома в Хевроне не последовало. Факт этот с равным правом может быть употреблен и в защиту поступка Гольдштейна, и — против. Да, акт его мог остановить готовящийся погром, устрашив арабов. Но мог и, напротив, поднять на ноги весь город, и тогда погром был бы страшен. Сегодняшние арабские боевики уже научились преодолевать инстинкт самосохранения, запугать их не так просто. Но, повторяю, погрома не последовало. Это первое.