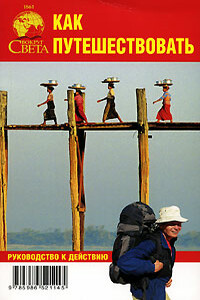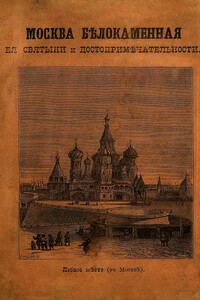Дорожный иврит. Путевая проза | страница 28
Во двор Хадассы, представлявший собой сложную систему террасок, галерей, лестниц, я вошел, как в другой город, — зелень, солнце и, наконец-то, звуки живой жизни: по лестницам и переходам двора носились мальчишки, заглушая своими криками птичье пение.
Шимон достал мобильник и начал набирать какой-то номер. Я же рассматривал мир, в который попал. Во двор Хадассы выходили двери еще и окружающих двор домов — здесь компактно проживало десятка два или три семей, семей многодетных, судя по звуковому фону.
Я поймал себя на странном ощущении — защищенности. Нет, не физической — при желании можно достать пулей и в этом дворе, — а как бы психологической. Я — в гетто.
Два года назад, в первый свой приезд в Израиль, я вдруг обнаружил, что перестал ежиться при этом слове. До сих пор содержание его определялось для меня такими словосочетаниями, как, скажем, «Варшавское гетто» — со всем тем, чем осталось это гетто в истории. Ну а здесь, гуляя по кварталам Меа Шеарима в Иерусалиме, я неожиданно вспомнил слова писателя и зека Юрия Владимировича Давыдова: «Знаешь, как отличить свободу от несвободы? Очень просто: ты в запертой комнате, и вопрос только в том, с какой стороны заперта дверь. Если снаружи — ты в тюрьме. Если изнутри, то есть ты сам запер дверь, — это свобода. Абсолютная!». Меашеаримские гетто запирались изнутри. Там для меня висела даже специальная надпись: «Не ходи здесь, Сережа. Это не твое место. Мы тут живем и молимся, мы не экспонаты в музее, уважай нашу приватность».
Нет, в хевронских гетто, разумеется, достаточно и «варшавского». Более чем. Но и несомненная свобода, потому как обитающие здесь сами выбрали свой путь. Можно сказать, здесь живут избранные. Избранные буквально — отбор желающих жить в общине строжайший. И сочетание свободы и несвободы в этом гетто достаточно сложное.
Шимон наконец оторвался от мобильника и махнул мне рукой: «Сейчас зайдем к одному моему знакомому». Мы сделали несколько шагов к двери в нижнем дворике Хадассы, Шимон позвонил, дверь открылась, и я увидел кряжистого сухощавого мужчину в очках и черной кипе, очень похожего на сетевые фотографии Шмуэля Мушника, одного из самых известных сегодня ветеранов хевронского поселенческого движения. Мужчина заговорил — фотография ожила. Мы входили в квартиру Мушника. Почти старомосковскую — с блеском книжных переплетов, множеством фотографий на стенах в первой комнате и картин — во второй комнате, выполняющей функцию мастерской Мушника. Кроме того, что он — учитель, историк-краевед, он еще и художник-пейзажист.