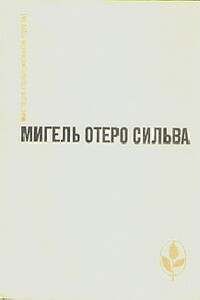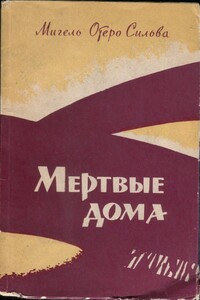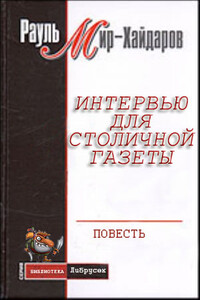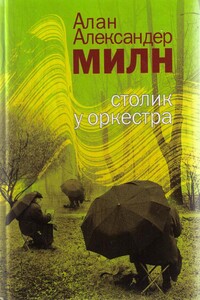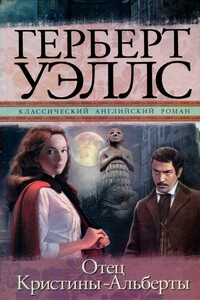Избранное | страница 10
Конечно, основной сюжет, в отличие от пролога, написан в ином стилистическом ключе. Здесь преобладает драматическое начало, поднимающееся в кульминационные моменты к трагедийному звучанию, и рассказ о каждом из юношей (каждый — неповторимая ценность на чаше весов жизни) окрашен горьким лиризмом. Но смех не исчез, перелившись в иронию, он накрыл своим «излучением» и основной сюжет.
Трудно было бы однозначно оценить источники и роль иронического начала в основной части произведения. В романе о молодежи и посвященном молодежи ирония — это и камертон, которым выверяется искренность, неложность трагедии, чистота звучания патетики, и средство спасения от грозящего удушьем дидактизма и тяжеловесного пафоса, способного похоронить все самое живое.
Но есть и иной источник, связанный с определенным отношением к истории, взятой в целом, как процесс. Мы не встретим в романе сентенций на темы истории, но в большом искусстве всегда есть сверхтемы, сверхпроблематика, порождаемые масштабом мысли художника, его общими представлениями о мире. В книге Мигеля Отеро Сильвы такая сверхпроблематика — философия истории, которую мы постигаем интуитивно, извлекая ее из интонационной полифонии повествования, из «звукового» слоя ее смыслов, где, будто на глубине, мерцает идея-образ большой Истории, как ее понимает писатель.
Складывается этот образ в скрещении двух лучей, двух стихий, двух тональностей — героически-трагедийной и иронически-насмешливой. Первая — порождение драмы истории, присущего ей катастрофического начала, вторая — порождение ее постоянно обновляющихся, возрождающих сил, которые смехом (вспомним высказывание Карла Маркса о смехе истории) снимают горечь поражения и недостижимости идеала и открывают перспективу движения вперед, к новым горизонтам.
Превосходство позиции автора, знающего «секрет» истории, и порождает иронию. Каждый из персонажей имеет какую-то свою «малую» правду, автор разделяет ее и в то же время, выявив ее неполноту, ограниченность, всегда с улыбкой, то печальной, то насмешливой, отстраняется, чтобы все извлеченное собрать в некую более общую и высокую идею — правду истории. Разумеется, это прежде всего касается Викторино по фамилии Пердомо, студента-подпольщика, прямого наследника и героя «Лихорадки», и задиристого великомученика из «Христианского пролога».
Иронические выпады против этого Викторино, вовсе не нарушающие общей драматической тональности и приобретающие иногда оттенок горько-скептический, связаны с разным пониманием революции, исторического действия автором и героем. Должно быть, не случайно назвал автор молодого революционера Викторино Пердомо, Виктор — победитель, Пердомо — гибель, утрата (от испанского слова pérdida). Отношение автора к терроризму, который исповедует Викторино, недвусмысленно, о нем все сказано устами отца: самоуправство с историей гибельно, она бьет, как ток высокого напряжения, бьет против жизни, сжигая и виновных, и невиновных, и вовсе непричастных, а просто живых людей, и может превратить высокую трагедию борьбы в кровавый фарс.