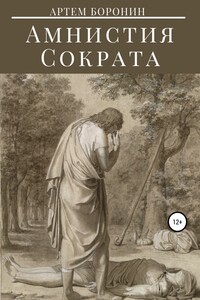Забайкальцы. Книга 4. | страница 23
А день разгорался такой чудесный, так ласково пригревало солнышко с голубого, без единого облачка, неба, серебристую трель сыпали жаворонки. Такой же, как небо, голубел по обе стороны острец, искусно расцвеченный желтыми маками и розовыми гребешками дикого клевера. Все вокруг цвело, благоухало, и диким казалось, что здесь, среди этой прелести, только что разыгралась кровавая бойня. Казаки, вопреки своим обычаям, даже не раздели порубленных ими батарейцев, так и лежали они в новехоньком обмундировании, алея лампасами и погонами на залитых кровью гимнастерках. Конь Михаила, чуя кровь, тряс головой, фыркал, прядал ушами. Казаки перекидывались словами:
— Не могли уж подальше от дороги-то!
— Ничего-о, пусть другие глядят да казнятся!
— А лампасы-то, как у всамделишних батарейцев казачьих, красные[3].
— Семенов-то в казаки их произвел!
— Чего же одежу-то не поснимали с них?
— Потому што поганая одежа ихняя.
Ближе других к дороге лежал бритоголовый харчен, он был еще живой, лежа ничком, скреб руками землю, хрипло бормотал что-то, из разрубленного плеча его струилась кровь. Глянув на него, Михаил не вытерпел, сорвал с плеча карабин и, не спрашиваясь у взводного, с ходу, двумя выстрелами прекратил мученья умирающего бандита. Никто не упрекнул Мишку; взводный лишь оглянулся на выстрелы, погрозил ему кулаком.
Полк остановился недалеко от места казни. Здесь решили провести первое полковое собрание, на котором избрать новых командиров, обсудить план дальнейших действий. Спешенные казаки расседланных копей пустили пастись, сгрудились вокруг зеленой полковой тачанки, которую вмиг приспособили под трибуну. К ней уже приспособили полковое, вздетое на пику знамя, на алом полотнище которого еще ничего не было написано.
В это время из села полным галопом мчался всадник на коне темной масти. Сначала на него никто не обратил внимания, полагая, что это один из отставших от полка казаков, и только когда тот подскакал ближе, узнали в нем офицера. Раздались, удивленные голоса:
— Ведь это офицер, братцы!
— Куда же его черт гонит?
— Жизнь ему надоела, что ли?
— Может, проспал, не слыхал, как мы перевернулись? Вот и спешит к своим?
— Товарищи, ведь это Гаркуш!
— Точно, он самый, хорунжий Гаркуш!
— Судить его, сам напрашивается.
Казаки, дивясь смелости офицера, расступились, пропуская его к трибуне, на которую только что поднялись Писменов и еще двое из организаторов переворота. Гаркуш как был в офицерском обмундировании, так и прибыл с наганом на боку, при шашке и даже погон не снял с гимнастерки, лишь на фуражке его не было уже кокарды. Худощавое, обрамленное черной бородкой лицо офицера не выражало и тени страха, казалось даже, что улыбчивые, карие глаза его светились радостью. Еще больше удивились казаки, когда Писменов, дружески улыбаясь, приветствовал офицера пожатием руки и ему первому предоставил слово.