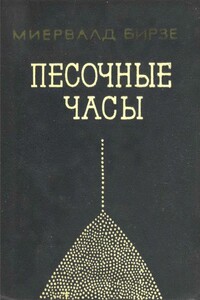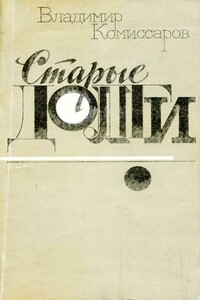Том 3. Рассказы 1906–1910 | страница 51
Кишит огромный муравейник, на который наступили, или справляют странный, всех захвативший от мала до велика праздник.
Это самый большой человеческий праздник, праздник паники и ужаса. Тысячи людей стремятся к заставам и растекаются по дорогам среди снежных полей, среди угрюмо молчащих в зимнем уборе лесов.
Кто-то умирает за них в пустынных улицах, а они бегут, об одном думая – о жизни в подвалах, в грязи, в нищете, в неустанной бычачьей работе, в беспросветном рабстве. Они бегут, ненавидя тех, кто умирает за них в пустынно-молчаливых улицах, ибо бьется в них великая любовь к жизни, постылой, проклятой, а теперь ставшей вдруг прекрасной жизни.
Я брожу между этими бегущими в одном направлении толпами. На углу у фонарного столба лежит мальчик с застывающим восковым лицом, с синею дырочкой над глазом от неведомо откуда залетевшей шальной пули. К фонарному столбу испуганно подбегают люди и разбегаются, оставляя вокруг воскового белеющего лица пустое и мертвое пространство.
Я вхожу на широкий, весь заставленный лошадьми, санями, ручными санками двор.
Торопливо выносят сундуки, узлы, грузят и спешно выезжают со двора. На всех улицах испуганное, торопливое оживление. Визг полозьев, фырканье лошадей, восклицания – все имеет не прямой свой смысл, а странно говорит о чем-то, что стоит молча и грозно над всеми.
Выделяясь равнодушной фигурой, с большой белой бородой, согнувшись, сидит на бревне старик, расставив колени, глядя красными слезящимися глазами на истоптанный снег.
– Ты что же, дедушка?
– Ась?
Он на минуту подымает на меня красные веки, тусклые глаза и опять в снег.
– Эй, што дорогу загородил, ломовой!..
– Матрешка, бяги скорея в горницу, за божницей пашпорт… забыли, головушка ты моя бедная!..
Кто-то ругается отборными словами. Плачет ребенок жалобно и слабо в захватывающем дыхание морозном воздухе.
– Остаешься, что ль, дедушка?
Его равнодушная, безучастная фигура странно выделяется на этом тревожном, беспокойно мечущемся оживлении.
Он опять глядит на меня, жует губами и вяло говорит тусклым, старческим голосом:
– Стыть, аж дерево дерет.
И снова глядит в снег, равнодушно пожевывая,
– Кха-а!.. господин хороший!..
Этот странный хриповатый голос, казалось, не имеющий никакого отношения к старику, выделяется изо всех звуков, неестественно-неожиданно проносится, как крик ворона, среди скрипа полозьев, среди частого дыхания, среди испуганных восклицаний, призывов, нетерпеливой брани.
Я оборачиваюсь.