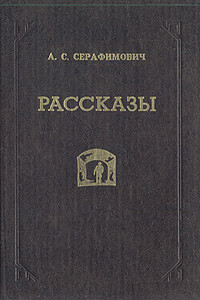Том 3. Рассказы 1906–1910 | страница 23
– Ах, оставьте меня с этой классовой борьбой, с этим идиотским…
– Извозчики тоже ругаются.
– Хорошо, я беру назад свои слова, но факт остается фактом… Печка горяча, я отлично знаю, что теплота – только молекулярное движение, но позвольте же, разрешите же и поймите закономерность моих ощущений… позвольте же мне ощущать теплоту ванны, нежную теплоту женской руки, наивную теплоту ребенка, которого я держу на руках… позвольте же мне ощущать эту теплоту как таковую, а не выскакивать поминутно с заявлением, что она не больше как движение молекул.
– Ну, так теперь вам остается только опустить руки.
– Нет, я буду бороться, я буду бороться. Но тогда, когда я отдавал свою юность, отдавал первые впечатления бытия, отдавал лучшее, что было заложено во мне, я боролся с энтузиазмом, я боролся с восторгом, с любовью, я бился в живую стену, ожидая, что вот-вот она дрогнет и расступится. Теперь я буду биться мрачно, безнадежно, с постоянной глухой злобой, буду биться с мыслью, что мне-то никогда не увидеть результатов моей борьбы… Почему буду все-таки биться? Да потому, что встать в ряды обывателей я уже не могу, я отравлен, потому же не могу, почему не могу по году носить вонючего белья, почему не могу жить без книг, без газет, без мыслей, без общения с себе подобными.
И снова в комнате, в которой лежали неподвижно темные тени, и за столом, желто освещенным из-под абажура, сидели, наклонившись над лексиконами, послышалось вспыхнувшее раздражение.
Прозрачная девушка поднялась, подошла к Варукову и положила ему на плечи руки:
– Евгений Александрович.
Он опустил голову и тихонько снял ее руки. Она стала ходить по комнате с морщинкой важности и думы, заложив руки назад.
– В тысяча шестьсот шестьдесят седьмом году, – заговорила она сосредоточенно, – в городе Нюренберге произошло событие… – голос ее запнулся, дрогнул, она насильственной болезненной улыбкой хотела подавить судорожное трепетание губ, – в шесть… сот ты-ся-ча… шесть-сот а-а-а… – Тонкий заячий вопль, в котором билось рыдание и судорожный истерический хохот, затрепетал и заметался по комнате.
Бросились, подхватили ее с запрокинутой головой, уложили. Холодная вода, снег, лед. Все ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом придвинули стол к кровати и сидели возле нее, занимаясь каждый своим делом.
– Фу, какая я! – заговорила она, стараясь улыбнуться сквозь непросохшие на глазах слезы. – Сама не знаю, с чего это со мной. Грицко, милый, достаньте «Кобзаря», вот там налево на полке, да почитайте нам.