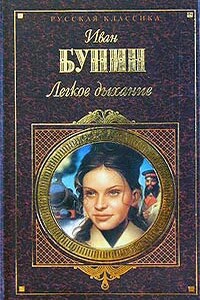Том 8. Усадьба Ланиных | страница 73
– Смотри. – Наташа показывает на горизонте три дерева. – Это идут три слона. А вон дуб мамврийский.
– Какой мамврийский?
– Из Ветхого Завета.
– Нет, тека, у нас этого еще не проходили.
Так они болтают, а мы пересекаем большую дорогу и спускаемся в «долину Луневки». Луневка – небольшая деревушка, из десяти дворов, расположена в овраге, и так запрятана, что, чтобы пробраться к ней, надо переехать плотину прудика, подняться по косогору, спуститься опять, – одним словом, выписать чуть не восьмерку.
Изба Тимофея Семеныча, деревенского слесаря, механика и чародея по машинной части, в самом конце. Мы узнаем ее потому, что сарайчик напротив носит все следы его художественно-ремесленной деятельности.
– Дома Тимофей Семеныч? – спрашиваю я молодого парня на крыльце. (Он учтив и имеет вид бывшего в Москве.)
– Сейчас выйдет!
По рассказам я знаю, что Тимофей Семеныч сразу не выходит к господам: он должен умыться, привести себя в порядок и лишь тогда соблаговолит.
Это серьезный, хмурый старик, несколько даже похожий на колдуна. Он не любит лишних слов, ревнив к своему искусству и не передал его даже сынам. Он знает, зачем мы приехали, и идет в свою лабораторию. Мы снова ждем. Мы рассматриваем его избу, детишек. Возвращаются со стадом овцы. Как и во времена моего детства, мальчишка хватает овцу за шерсть и тащит домой, как и в давние годы, баба выходит на крыльцо и зовет овец: «выть, выть, выть». По зеленой мураве шествуют гуси, малыш стоит, заголив пузо. Гаснет дымно-розовый закат.
– Тимофей Семеныч! – обращаюсь я к подошедшему в валенках алхимику. – Дедушка завтра просил вас к нам. Жнея шалит.
Это слово «шалит» я выговариваю с гордостью. Приятно показать себя деревенским человеком.
За моей спиной Наташа смешит ребятишек Тимофея Семеныча, гукает на них, строит рожи и показывает язык.
– К вам? – сурово спрашивает Тимофей Семеныч. – Значит, надо утром.
Я не настаиваю, что непременно утром, и логической необходимости в этом не вижу, но раз он так говорит – пусть.
Мы укладываем в ноги нож, я благодарю, и мы трогаемся.
Начинает уже смеркаться. Возвращаются с поля жницы и вязальщицы в грубоватых перчатках. Мы проезжаем у крайней избенки мимо палисадника мальв. Мужик сидит на лавочке и поправляет косу. Деревня имеет усталый, но спокойный, честный вид, как человек, сделавший свое дело и отходящий на покой. Правя вниз, по косогору, я думаю, что эта деревня, то есть не именно Луневка, но вообще русская деревня, имеет надо мной неотразимую силу. Сознательно я даже не люблю ее. Я с ужасом думаю об убогой и полуслепой жизни в этих хибарках, о тесном круге интересов, замыкаемом вон той рощицей на закате; о вековом однообразии этого бытия.