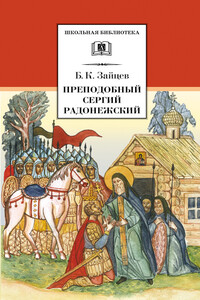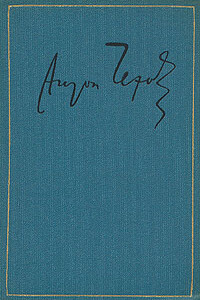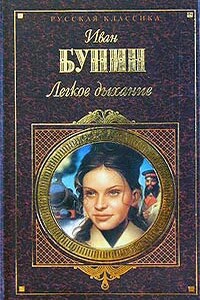Том 8. Усадьба Ланиных | страница 60
Она подходит к обрыву и бросает вниз папиросу. Огонек прорезывает тьму дугой и пропадает. Александра Николаевна обертывается.
– Он меня обманывал, а теперь ему нужно, чтобы все происходило свободно. Я ничего не говорю. Конечно, пусть меня бросает.
Она садится, кладет голову на камень и несколько времени сидит молча. Я хочу что-то ей сказать, обнять ее, поцеловать, но не выходит. Жму лишь руку.
– Тогда зачем же было тянуть все это, – говорит она, точно про себя. – Я его не удерживала.
Ночь уходит все дальше. Звезды изменили места: одни заходят за чернеющий край скал, другие появляются над Сестри. Влажный, темный ветерок набежал с моря. За туннелем свистит поезд.
– Ну, – говорит Александра Николаевна, очнувшись. – Скажите ж мне, что делать.
Я знаю, что надо делать: надо все пережить, измучиться и полуразбитой выйти снова.
– Терпите, – говорю я. – Милая, терпите. Она вновь кладет голову на камень.
Я продолжаю:
– Бог дал нам страдания для неизвестных целей. Не нам их понять. Мы можем лишь любить.
Помню я, что прежде, давно, когда я была известной, богатой и красивой, все в жизни сосредоточивалось для меня на мне самой: люди столько меня интересовали, сколько восхищались моим пением, ухаживали за мной и льстили. Часто я понимала, что лесть груба, корыстна; но такова ее сила над нами; всегда наше сердце на стороне того, кто хвалит.
Во всяком случае – не ездившие в Большой театр, не аплодировавшие и не подносившие цветов были для меня ничто. Я не желала им зла. Но во мне было уже некоторое недовольство теми, кто предпочитал моему пению науку, литературу, живопись.
Так было давно. А с тех пор как из известной певицы я превратилась в бездомную бродягу, из года в год менялось мое отношение к людям.
Я заговорила об этом потому, что здесь, в приморской итальянкой деревушке, чувство это проявилось во мне сильнее.
Да, меня интересуют и прачки, полощущие белье в ручье, и работники, собирающие оливки; и рыбаки, и каменотесы, что вечно чинят дорогу в Сестри. Дети и старики, два раза в день выходящие к морю, и стрелочница Тереза с четырьмя малышами – полуголодная, но всегда бойкая, живая, энергичная. И наконец, наша Мариетта.
Мариетта меня занимает в особенности. Ей четырнадцать лет, она тоненькая, с черными продолговатыми глазами и этрусским профилем. Она является к нам утром, убирает комнаты – с той легкостью, грацией движений, которые свойственны ее расе. Она же нам готовит. На помощь ей приходит бабушка – сказочного вида старушонка, – и вдвоем они жарят и варят на кухне. От жара Мариетта розовеет. Глаза ее блестят ярче.