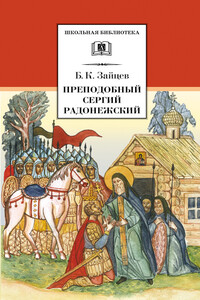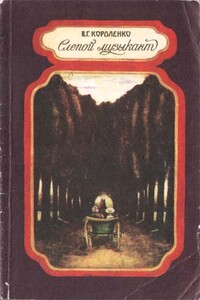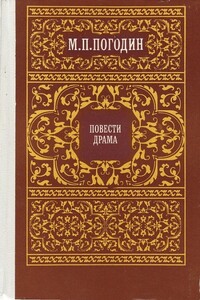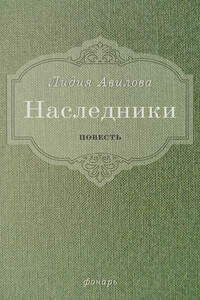Том 8. Усадьба Ланиных | страница 35
Был прохладный день, сероватый. Липы в большом саду облетели, пахло милой и печальной осенью. На гумне Ивана Гусарова молотили цепами.
Впереди шел Дед с отцом, потом Женя, девочки, садовник, сзади гомозились мальчишки. В саду выбрали заброшенную сторожку караульщика; прикрепили бумагу на двери, обвели круг.
– Ну, готово, – сказал Дед. – Николай Петрович, заряжайте.
Отец заколачивал шомполом пыж, а Женя стоял, смотрел невидящими глазами и вздыхал, – как будто стрелять должны были в него. Наконец отец надел пистон. Девочки заткнули уши и замерли.
– Теперь бери… вот так, левую вперед, чтоб мушка на середине листа.
Женя видел только блиставший пистон. В нем отражался какой-то луч, и этот пистон действовал на него магически. Руки не двигались.
– Ну, валяй, – крикнул Дед.
Женя что-то дернул, перед ним блеснуло, бухнуло, он отшатнулся и опустил ружье. Отец с Дедом смеялись.
– Страшно палить, а? Дед трепал его по щеке.
– Ну ничего, молодец.
– Нет, – Женя едва выговаривал слова, – не страшно. Отец подошел к сторожке.
– Десять дробин, ай да ты!
Женя улыбнулся. Чем-то смутным, блаженным был он полон, и весь этот день, когда ружье висело в кабинете с «настоящими» ружьями, был так значителен, радостен; он уже не просто Женя, а владетель ружья, из которого может стрелять воробьев, сорок, – какое громадное преимущество перед девочками.
Он был счастлив.
Слобода, где играли в лапту, дорога к церкви, все с наступлением осени обращалось в топь. Приходилось сидеть дома. Только отец мог ездить в это время с гончими, дети учились, и бедная Лиза Толстенькая часами разыгрывала экзерсисы; от скуки, неудовольствия по ее пухлым щекам текли слезы, но в это время года ничего уже нельзя было поделать с Линой: она брала верх. Соня и Женя учились по-немецки. О ружье нечего было и думать.
Через час-два после обеда смеркалось. За окнами было темно, на деревне зажигали кой-где огни.
– Соня, Соня, – говорила Собачка, – за сколько б ты пошла сейчас на кладбище?
– Я бы за тысячу.
– А я бы за десять не пошла…
В столовой шила что-нибудь мама, в комнате рядом с кухней Дашенька штопала чулки. Дети посылали за Настасьей.
Старая баба Настасья, птичница, хромая, подслеповатая, вносила с собой нечто сказочно-таинственное. Ее заставляли рассказывать, давали за это орешков, пряника. Усаживались вокруг в темной комнате, запирали двери – начинались рассказы.
– И было, значит, три сестрицы: одна двуглазка, другая одноглазка, третья трехглазка. И так это ведьма и говорит: закрой глазок, закрой другой, а про третий забыла.