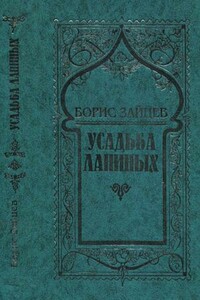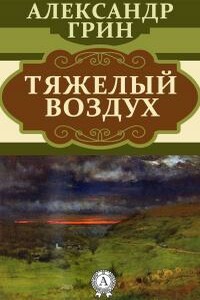Том 5. Жизнь Тургенева | страница 79
В комнате Толстого пахло табаком, все было разбросано, и сапоги могли стоять на туалетном столике, брюки валяться на рукописях, или рукописи на брюках, нередко возвращался он на рассвете, вставал Бог знает когда, полдня ходил по квартире немытый, угрызался за «недолжную» жизнь, и тотчас начинал громить первого встречного, ел Бог знает что, на ходу, решая вопрос о правде в человеческих отношениях и чаще всего находя, что все неправда, и хорошо бы вообще весь мир переделать сверху донизу.
Разумеется, хозяин и гость не могли двух слов сказать, не заспорив. Тургенев жизнь окружающую признавал, считая, что ее надо улучшать. В Толстом сидело и тогда зерно всеобщего разрушения и постройки всего заново. Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедывал, и не особенно моралью интересовался. Толстой все это бурно переживал. И так как был малообразован, но безмерно самолюбив и силен, то ему доставляло наибольшее удовольствие оспаривать неоспоримое.
Литературный круг Тургенева в то время составляли Некрасов, Панаев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков, Писемский, Гончаров. Толстой бывал также на этих собраниях. Он играл на них роль enfant terrible[18]. Ему казалось, что Тургенев слишком красноречив и «фразист», сам он перегибал в другую сторону, но желанная, столь великая простота, естественность, не так-то легко давалась: тут приходилось бы уж подыматься к Пушкину – толстовское же стремление к угловатости, «корявости», конечно, простотою не было. Разве простота вся та известная сцена, когда Толстой, возражая волнующемуся Тургеневу, заявил:
– Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.
Ни с каким кинжалом нигде Толстой не стоял, собственную жизнь прожил в огромных противоречиях с этими самыми «убеждениями», и в некотором смысле показал себя вовсе не сильным человеком – так что выпады вроде приведенных меньше всего правдивы и просты. В них есть театр, подмостки (чего не лишен был и Тургенев, но в другом роде. Тургеневский театр условен в «изяществе», толстовский в «простоватости».)
Но Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор. Поэтому, в некотором смысле держался проще Толстого. Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества.