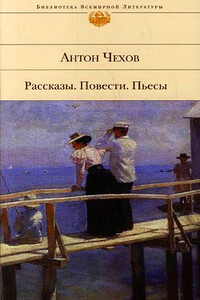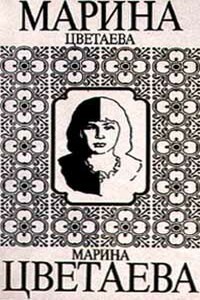Том 5. Жизнь Тургенева | страница 49
После «Параши» Белинский охладел к Тургеневу вплоть до «Хоря» – а между тем за это время написал Тургенев и «Андрея Колосова», и «Три портрета», и «Бретера», и «Жида», и «Петушкова» (1846–1847 годы). Белинский одно время, как увидим, жил за границей вместе с Тургеневым. Нельзя утверждать, что он знал все эти произведения, находившиеся частью в рукописях. Но более чем вероятно, что с некоторыми в рукописях-то и ознакомился (Тургенев всегда любил читать друзьям до печатания). Во всяком случае, они не могли его особенно захватить: из них мало что выудишь для борьбы с николаевским режимом. И если к Пушкину Белинский в это время изменился, то куда уж Тургеневу…
А между тем, эта холодность так на Тургенева действовала, что одно время он собирался даже отойти от литературы. Вот удружил бы нам Белинский!
Итак, Тургенев жил разными своими слоями – и франтил, носил лорнеты, козырял, – и сочинял совсем нелегкомысленные вещи. Устраивал мальчишеские выходки и сердечно вздыхал по Виардо, писал ей об «Ифигении», Куртавенеле и прочих высоких предметах. Может быть, в «студенческих» прениях с Белинским оказывался моложе себя самого – того Тургенева, который наедине с собой задумывал произведения много постарше Белинского.
Хотя Варваре Петровне и очень понравилась «Параша», все-таки сыном она не могла быть довольна: из профессорства его ничего не вышло, из службы в министерстве тоже. В сущности, что же он делал? Сидел в Петербурге, водился с разными литераторами, писал стишки и рассказики, которыми почти ничего нельзя было заработать. Это ее раздражало. Не нравилось и увлечение Полиной. Прослушав однажды Виардо в концерте, она сказала известную фразу о хорошо поющей «проклятой цыганке» – в самом сочетании слов не выразила ли, бессознательно, тревогу перед судьбой?
Но недовольство свое тотчас же переводила на житейское: прижимала сына денежно. Не хочешь делом заниматься – ну и подголадывай. Разумеется, сын принимал это тягостно.
Еще давние, детские воспоминания восстанавливали его против крепостничества. В молодых годах рядом стоял образ матери – очень живое воплощенье строя. Появились и петербургские литераторы, тот же Белинский (позднее Панаев и Некрасов) – другой мир, другой полюс жизни. Гегельянцу Тургеневу, поклоннику просвещенной и могущественной Виардо, невместно радоваться рабовладению. Начинающему писателю не могла доставлять удовольствия цензура. Европой Тургенев оказался отравлен довольно уже давно, а своя страна, особенно на верхах, давала мало хорошего.