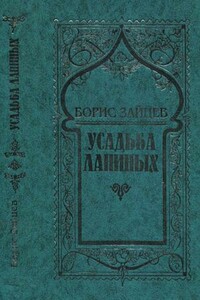Том 3. Звезда над Булонью | страница 29
И когда вечером, в большой нашей зале, с разложенными липкими бумажками для мух, я пела, то мои Чайковские, и Шуманы, и Глинки все витали в четырех тех же стенах, где Маркуша слушал преданно, отец снисходительно, Георгий Александрович задумчиво.
К концу июля он собрался. На прощанье говорил мне:
– Вы зимой должны серьезнее заняться пением. Надо вас кое-кому показать.
Мне было жаль, что он уехал. Мне нравилась его слегка обостренная ласковость, изящество, – это немного подбодряло.
Если бы Маркуша, чистосердечно всхрапывавший на своей постели, знал о смутных, беглых, но и острых получувствах, полумыслях легкомысленной своей жены, то вряд ли это очень бы его порадовало.
Время же шло. Мужики возили рожь, овес, косили и пахали под озимое. Любовь Ивановна мелькала иногда у веялки, во дворе, в красном своем платочке, или же на риге: там к посеву обмолачивали первые снопы. Никто не бунтовал, помещиков не жгли. И в поле, ночью, при огнистом лете августовских звезд, слабом благоухании нив сжатых казалось, как всегда в деревне: нет ни городов, ни людей, ни дел – лишь тишина да вечность. Но надолго остаться здесь…
И когда осенью мы трогались в Москву, то и отца жалела я здесь оставлять, и вновь Москвы хотелось – шумной, острой.
Москва же – это Спиридоновка, где у подъезда встретит нас учтивый Николай, блестя глазами и слегка попахивая водочкой, торжественно потащит вещи.
Всплеснет руками красноносая Марфуша, золотые серьги дрыгнут – хлопнувши себя руками по бокам, помчится вниз – да не забыли ль на извозчике чего, да как Андрюшенька-то вырос, да сейчас сварю, да сжарю, подмету…
И скоро вечер, и знакомый самовар клубит в знакомой маленькой столовой, зеленеет лампа у Маркуши в кабинете, бледно-зеленоватое и золотистое мерцание Москвы вечерней в окнах его мирной комнатки. О, как мне не любить тех легких, светлых лет!
Иду, молчу и подавляю вздох. Сквозь слезы, может быть, и улыбнусь.
И я пою, как раньше, и хожу с тем же «Musique»[2], и очень мало уж теперь боюсь Ольгу Андреевну. Да и она со мною по-иному.
– Наталья, ты как будто… ты недурно стала петь.
Не знаю, то ли я окрепла, голос вырос, но действительно в ту осень мне везло. Я пела как-то у себя на Спиридоновке, на небольшой нашей вечеринке. То, что студенты хлопали, что хвалил Георгий Александрович, – все это ничего. Но почему Нилова на меня кинулась, обняла, и сквозь нечистые зубы гаркнула: «Наташка, ты счастливая родилась!», Костомарова одобрила – солидно и без аффектации? И почему зеленовато-неблагожелательная искра промелькнула в глазах Жени Андреевской?