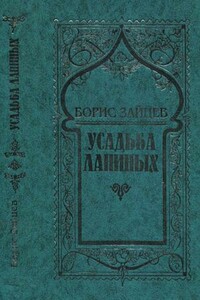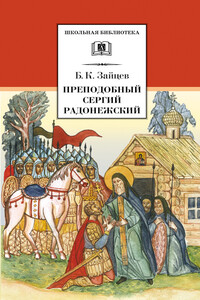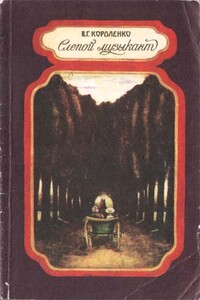Том 1. Тихие зори | страница 82
«Крути, крути! – думал Константин Андреич. – Заметай». И прошлая его жизнь одевалась саванами; все выл, выл ветер. Чем дальше шел поезд – глубже погружалось сердце во мглу.
На станцию Ольгино приехали в полдень. Метель разыгрывалась. Точно спросонья вышел Константин Андреич из вагона и в буфете съел отбивную котлету. Как всегда, блестели холодно пирамидки вин; искусственные пальмы нагоняли тоску. Двое помещиков глотали борщ, на маленьких столиках гнездилась мелкота железнодорожная, за пивом.
Вот отворилась дверь, – заметенный снегом, с узлом в руках появился Кондрат.
– Ехать бы нам, не запаздывать! Константин Андреич поднял голову.
– Рано еще. Куда спешить?
– Так мы думаем, барин, что шалят нынче по дорогам, – темноты не надо бы захватывать.
«А-а!» – Он усмехнулся.
– Ну ладно, ладно, только чай допью.
И когда Кондрат ушел, – громадный, стыдящийся своего роста, – он опять посмеялся: кажется, совсем новые чувства – «бандиты» будут по дороге грабить.
Через четверть часа, в облаках снега, они катили гуськом по большаку. Звенели колокольчики, дорогу передувало метелью; в лицо летели колючки снежные. Опять поля лежали вокруг, – веяло с них суровым! Будто говорило: «Заблудись, попробуй! Захвати темноты. Пусть лошади твои станут, – мы тебя укроем, возьмем мы тебя, закоченеешь на нашей груди». Он глядел на них холодно. «Пусть». И его дорожные мысли шли, как всегда, по тропе горькой, знакомой: что есть он? что ему дано, в чем его жизнь? Прошлое, может быть, никогда не умрет, как не умирают волны светлой стихии, раз всколыхнутой. Но теперь сердце немо; можно ехать дорогою, как сейчас, – но можно наугад блуждать, под знаком… неизвестности. Не правильней ли всего это?
Кондрат обернулся.
– Деваться им некуда. Кто из тюрьмы, кто еще откуда; ну и лазают по большакам. Намедни тут купца утюкали – вот, в ложочке.
Через минуту прибавил:
– Да и сами дохнут немало. Поди в пургу такую… Замерзают даже очень.
Нырнули в деревню. Пришлось ехать шагом – ухабы громоздились несметными горами, выше окон избенок: к дверям были прокопаны траншеи, окна напоминали люки; под самую крышу стены укутаны соломой. «Там внутри чернота, угар, холод; грязь, нищета, тупость столетняя, – ужас! Русь!» Соленая волна подступала к глазам; точно припало сердце к забытому, всегда родному. «Русь, Русь! – повторял он, когда выехали из Наумовского. – Горькая Рассея!» И ему казалось в ту минуту, что хорошо отдать за нее себя.