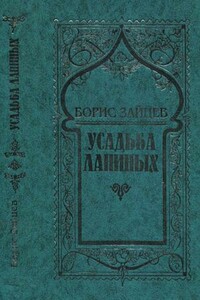Том 1. Тихие зори | страница 70
В ноябре, среди ранних метелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно – и стала ходить в музыкальное училище; а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире раздавался Бетховен.
Оттого, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричино краснел.
– Нашего Костю никогда не слыхать, – говорила тетушка. – Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.
Клавдия улыбалась – точно была с ним в заговоре.
Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.
Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом, ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.
Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями.
Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены – как они тихо лежат, и как долго! как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас, и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.
Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет – и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал, как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.
В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме соскочила с постели; жарко было, колотилось сердце.