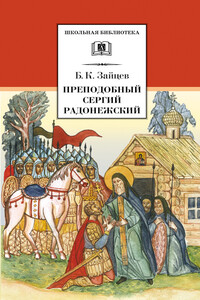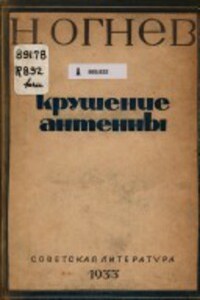Том 1. Тихие зори | страница 20
Сразу после Октябрьского переворота Зайцев счел необходимым выступить с заявлением-протестом, в котором выразил мнение многих деятелей культуры, осуждавших желание новой власти максимально ограничить право художника на свободу слова. Вот что он сказал, выступая 10 декабря 1917 года в однодневной газете Клуба московских писателей «Слову – свобода»:
«Гнет душит свободное слово. Старая, старая история. Кто станет спорить, убеждать, доказывать? Убеждать не в чем. Все ясно! Но еще раз, как всегда было и всегда будет, мы подымаемся и говорим: „Сейчас, именно вот теперь, делается дурное дело, совершается насилие над человеческим словом. Не забывайте, что дурное – дурно!“ Вот наши слова. Жить же, мыслить, писать будем по-прежнему. Некого нам бояться – служителям слова. Нас же поклонники тюрем всегда боялись. Ибо от них и их жалких дел останется пепел. Но бессмертно слово. И осуждает. Ни сломить, ни запугать его нельзя».
В 1921 году московские писатели избирают Бориса Константиновича председателем своего Союза. Товарищами председателя были избраны Н. Бердяев и М. Осоргин. В июле этого года руководители Союза приняли предложение вступить в Комитет помощи голодающим (Помгол), возглавил который Л. Каменев. В состав комитета вошли А. Рыков, А. Луначарский, М. Горький, Вера Фигнер. Писатели под руководством М. Осоргина наладили выпуск газеты «Помощь». Однако не прошло и месяца, как однажды вечером в разгар заседания писательской группы комитета, обсуждавшей вопрос о выезде делегации в Европу для срочного сбора средств, «в прихожей раздался шум, – вспоминал Зайцев. – Неизвестно, что за шум, почему, но сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полусумрака передней и один из них гаркнул:
– Постановлением Всероссийской Чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы!»
С горестным – «черным» – юмором вспоминал Зайцев в книге «Москва» о сидении в подвалах Лубянки – «в грязи, убожестве, кровавой слякоти отверженного места». В «историко-литературном углу» камеры они читали друг другу лекции: профессор Б. Виппер – о живописи, П. Муратов – о древней иконописи, Зайцев – о русской литературе… Солнечным утром в разгар зайцевской лекции в камеру вошли двое… «В руке одного была бумажка, – рассказывал Зайцев. – По ней он так же громко и бесцеремонно, прерывая меня, прочел, что я и Муратов свободны, можем уходить».