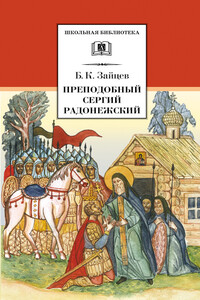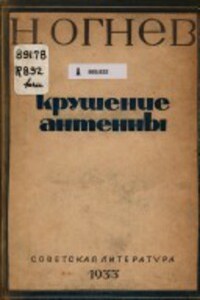Том 1. Тихие зори | страница 17
«Дальний край» писался начиная с лета 1911 года, сперва в Притыкино, а затем был продолжен зимой во время путешествия (по счету пятого после 1904 года) по Италии. Летом
1912 года работа над первым крупным эпическим произведением завершается. Роман выходит в свет в двух выпусках альманаха издательства «Шиповник». Однако издание его отдельной книгой, как уже упоминалось, встретило препятствия – последовал цензурный запрет, публикацию романа о судьбах молодых людей, увлеченных идеями революционного переустройства мира, сочли крайне неуместной и нежелательной в разгар начавшейся первой мировой войны. Впрочем, уже через год книга вышла в издательстве К. Ф. Некрасова (печаталась в его ярославской типографии). На титуле посвящение: «Вере Алексеевне Зайцевой» – дань признательности автора своему преданному другу и помощнику в работе.
«Дальний край» всколыхнул новую волну споров вокруг творчества Зайцева. Со статьями-разборами в одном только
1913 году (не просохла еще типографская краска в толстых книжках «Шиповника») выступили Ю. Айхенвальд в «Речи», С. Андрианов в «Вестнике Европы», А. Бурнакин в «Новом времени». В числе первых отозвались также «Современный мир», «Современник», «Заветы». Своеобразный итог разноречивым суждениям подвела Е. Колтоновская – автор большой статьи о Зайцеве в восемнадцатом томе «Нового энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Она пишет: «В способности подходить к предмету непосредственно и сразу захватывать кроется обаяние зайцевской манеры, которая, несмотря на усиленное тяготение Зайцева к реализму, остается импрессионистско-лирической даже в большом романе „Дальний край“. Отдельные картины этого романа свежи и поэтичны и вполне могли бы рассматриваться как самостоятельные произведения (например, все итальянские эпизоды). Но в целом роман не отличается полнотой, стройностью и широтой захвата». С последним категоричным суждением можно спорить, ибо «Дальний край» – произведение чисто зайцевское («лирическое и поэтическое»), а значит, и подходить к нему следует вовсе не с мерками канонических жанровых признаков романа («полнота, стройность, широта захвата» и т. п.). Уместнее было бы услышать голос самого автора, который с первых же своих вещей «ощутил новый для себя тип писания: бессюжетный рассказ-поэму» и этому, как мы теперь можем убедиться, был верен на протяжении всего своего долгого (семидесятилетнего!) творческого пути.