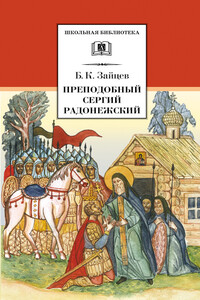Том 1. Тихие зори | страница 14
«Жизнь или смерть – это все равно. Не это важно», – размышляет герой зайцевского рассказа «Гость» Николай Гаврилыч, читая сочинения древнего философа Филона Александрийского. «Что же важно, он не отвечал, – добавляет автор, – может, и нельзя было словами сказать; но одно он чувствовал наверное: радость и холод наджизненного, светло-ключевого. Нетленного бытия, процветающего на высотах». В разгар этих осенних мудрствований пожаловал нежданный гость – «молодой человек в полицейской тужурке», становой, просившийся на ночевку. За ужином размякший, отогревшийся гость разговорился о своей нелегкой доле, о том, что грозятся его убить. Это вызвало у Николая Гаврилыча новый прилив размышлений. «…В великой драме мира вставали перед сердцем дальние края той ужасной земли, где идет жизнь становойская, тех пустынь и скорбей, что лежат за селами и хуторами. „Все будет попалено, сгорит жизнь и ее мерзость“. В вышине шли холодные токи. Луна леденела, и некто строгий и кристальный говорил: „Все у вас погибнет“. Но это не было страшно».
В другом рассказе – «Сестра» – Зайцев снова подчеркивает мысль о естественной неизбежности смерти, о том, что относиться к этому следует без трагизма: «Нам дано жить в тоске и скорби, но дано и быть твердыми и с честью и мужеством пронести свой дух сквозь эту юдоль неугасимым пламенем и с спокойной печалью умереть: отойти в вечную обитель ясности».
Художественным контрапунктом всех книг Зайцева является Жизнь и Смерть человека вообще. Этот «человек вообще» показывается нам не в заботах житейских, мы не всегда знаем, добравшись до последней страницы той или иной новеллы, кто он по роду занятий, где служит, – для писателя-лирика это не имеет значения. Люди из зайцевской России просто живут, всяческие обстоятельства земные их соединяют и разлучают, некоторые из них уходят из жизни – уходят безбоязненно, спокойно, исполненные смирения и мудрого понимания естественной, предопределенной неизбежности конца всего сущего. Как заметил К. Чуковский, они, умирая, «при этом еще улыбаются: ах, как приятно таять!» Зайцев, как никто другой, философски передал нам, читателям, поэзию бытия человека и его ухода, умирания – в противовес своим современникам Л. Андрееву и С. Сергееву-Ценскому, глубоко раскрывшим трагизм человеческой жизни и смерти. Во всю – немалую! – силу своих талантов они показали, как неизбежность конца, неотвратимость ухода порождают вседозволенность, приводят подчас к необузданному разгулу страстей, в огне и вихрях которого многие сгорают. Земные люди, они и страдают, и радуются, и гибнут здесь же, на земле, не помышляя ни о чем другом.