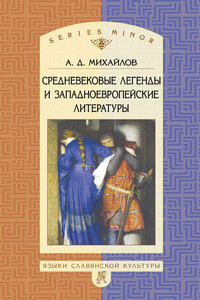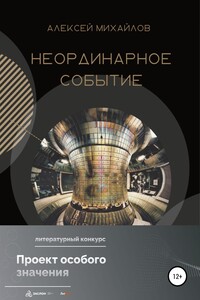От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Том I | страница 73
Положительная программа Рабле-гуманиста содержится не только в письме Гаргантюа. В уже упоминавшемся рассказе Эпистемона заключено важнейшее положение раблезианской религиозной этики: «Таким образом, – пишет Рабле, – те, что были важными господами на этом свете, терпят нужду и влачат жалкое и унизительное существование на том. И наоборот: философы и все те, кто на этом свете бедствовал, в свою очередь, стали на том свете важными господами» (гл. XXX).
Представление о подлинно положительном человеке воплощено в этой первой книге Рабле в образе Пантагрюэля. И имя героя, и его внешний облик и повадки заимствованы писателем из народных сказаний. Поэтому великан Пантагрюэль отличается необузданностью в еде и питье, это веселый бражник и добрый малый. Но обычная житейская жажда соединяется у него с гуманистической жаждой знания, столь же неудержимой, как и его тяга к веселью. Жизненная философия Пантагрюэля, названная «пантагрюэлизмом» (и ошибочно иногда переносимая на самого Рабле), окончательно выкристаллизовывается в следующих книгах писателя, здесь же быть «пантагрюэлистом» означает жить в мире, довольстве, здравии, веселье, всегда обильно есть и пить. Эта философия, в сочетании с гуманистической программой воспитания, о которой уже была речь выше, и непримиримым отношением к пережиткам Средневековья, отражала первый этап эволюции Рабле и французского Возрождения.
Для «Пантагрюэля» характерен постепенный переход от мифологического мышления к реализму. Речь в данном случае идет не о «местно-топографическом» характере книги (Бахтин), не о достоверности и точности деталей, а о широкой панораме современной Рабле действительности, о верности и точности пропорций в ней. Жизнь города на исходе Средневековья дана Рабле подробно и многопланово. Но это реалистическое восприятие и отражение мира все время приходит в столкновение с мифологическим; более того, очень часто вполне реальным событиям и вещам дается мифологическое истолкование. Раблезианский мир двоится, в нем постоянно смещаются и нарушаются пропорции.
Основным персонажем этого «реального» плана романа становится Панург, герой, который затем будет характернейшим протагонистом огромного числа повествовательных произведений в литературах многих стран Европы – и Франции, и Испании, и Англии, и Германии. Без большой натяжки можно сказать, что Панург был первым знаменитым «пикаро», первым героем плутовского романа. Появление Панурга на страницах книги (гл. IX) как бы меняет пропорции всего изображаемого: Пантагрюэль продолжает, конечно, оставаться великаном, но когда он столь хитроумно разрешает тяжбу двух вельмож или председательствует на философском диспуте, трудно представить, что он может накрыть языком целое войско или у него во рту помещается небольшое государство. В городских главах книги (гл. IХ – ХХII) Панург, это типичное дитя города, в своей среде, когда же он отправляется вместе с Пантагрюэлем в поход против дипсодов, он как бы теряет свои качества «пикаро», плута, пройдохи, бродяги и превращается в мифологический персонаж, ибо оказывается в чуждой ему среде – но не социально, а литературно, то есть переходит в художественную действительность совсем иной структуры. Здесь перед нами как бы спор фольклорной традиции (великаны с их огромным, намеренно гиперболизированным, «великаньим» миром) с новым, сознательно сниженным, сугубо индивидуализированным героем. Этот спор двух традиций, двух систем изображения, двух типов восприятия действительности – мифологического и реалистического – продолжен в следующих книгах.