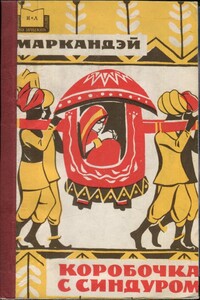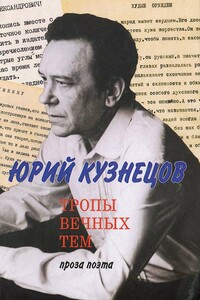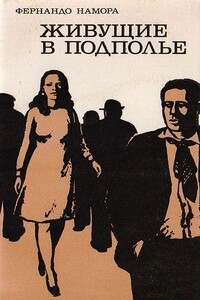Женщина проигрывает в конкурсе на лучшее печенье и поджигает себя | страница 9
И потом мы все повернулись к плитам, в зале раздался голос шеф — повара, и он сказал: «Хозяйки, включайте духовки», и мы начали. И все ингредиенты были у меня с собой, и я выложила их на стол, совсем как в то утро, после смерти Карла. Я сбрызнула противень этим аэрозольным кулинарным жиром, смешала овсянку, муку, корицу, пекарский порошок, пищевую соду, соль и взглянула на Еву. Руки у нее были алого цвета. То, что должно было придать щечкам херувимов их румянец, — все было у нее на руках. Я смотрела на нее, и мне показалось, что в глазах у Евы стоят слезы, и я поняла, что она готовит для Вольфа.
Я повернулась к своему печенью. Настало время добавить сахару. Рука моя потянулась за сахарным песком, но я медлила. По рецепту нужна была чашка песку. Но с меня довольно. Я положила одну чашку коричневого сахару. Только чашку коричневого. Жюри будет мне благодарно, подумала я. После «Грязи с мостовой» и «Щечек херувима» их будет уже тошнить от всего чрезмерного и необычайного, и мое печенье тронет их как нечто настоящее, родное, словно материнские объятья. И они будут жевать и жевать и отложат вынесение оценок, потому что им не захочется прекращать жевание, и я вернусь вечером к себе домой, и испеку еще порцию точно такого же, и буду жевать его ночь напролет, пока не взойдет солнце.
Я лежала в кроватке, когда была маленькой, и это было в горах в Бадене, и моя мама с моей бабушкой дружно подтыкали мне одеяло, и я тайно прятала печенье в рукаве ночной рубашки, и они, конечно, знали и улыбались мне и друг другу, и было не то Рождество, не то канун Рождества, так мне обычно это вспоминается, и неважно, что отец мой сидел у камина, и курил, и раскачивался в кресле, и говорил только с другими мужчинами — они для меня вообще не существовали, на свете не было никого, кроме этих двух женщин и меня, и в рукаве я прятала печенье, которое мы стряпали втроем, и моя мама и моя бабушка укрывали меня, и я хотела вырасти и стать такой же, как они, вырасти большой, теплой и умной, в том смысле, в каком женщина бывает умна, и, пока на моих щеках еще оставались влажные следы поцелуев мамы и бабушки, я съедала под одеялом печенье, и оно было вязкое, и оно все длилось и не кончалось, и мне казалось, что я никогда его не проглочу и у меня во рту навсегда останется эта сладость.
Но, конечно, я заблуждалась. На меня обрушилась другая жизнь, и теперь я знаю, что печенье, которое я прятала в рукаве, может, и было хорошо для ребенка, но предназначалось тому мужчине у камина, и если даже я, придя сегодня вечером домой, испеку это же самое печенье, кровать, в которую я его возьму, вся пропитана запахом другого человека, даже если он уже умер. Это ему. Это всегда для него. Вот чему учили меня две женщины, которых я люблю. И я, само собой, пыталась внушить это своим дочерям. Мне ведь почти семьдесят лет.