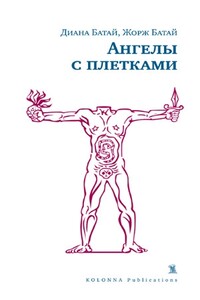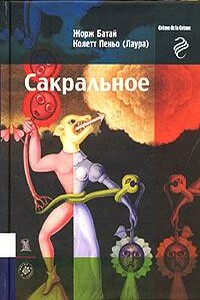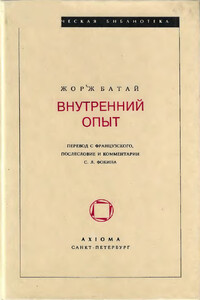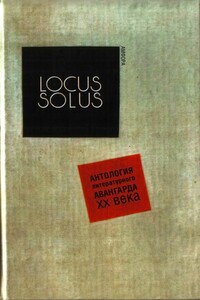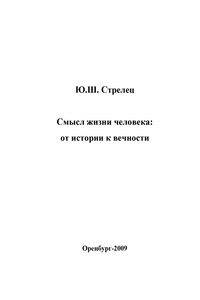Из "Внутреннего опыта" | страница 12
Легко проникнуться всей серьезностью отношения Батая к Гегелю: приведенные Деррида штрихи к портрету Гегеля. которые Батай набрасывал в самых разных своих работах, не могут не сложиться в завораживающую картину, с которой взирает на нас не то Гегель, не то Сверхчеловек, не то Бог, не то ... сам Батай. Представив себе необходимость не быть больше отдельным, частным бытием, индивидом, которым он был, но быть всеобщей Идеей - одним словом, представив себе необходимость стать Богом, он почувствовал, что сходит с ума ._
Последний ход мысли никак не может нас обмануть: настойчиво смещая экзистенциальный образ Гегеля к безумию, Батай ищет прямого отождествления с ним, именно безумие, бытие человека вне ума, вне разумности, вне разумного знания и соответственно вне знающего себя и познающего языка открывается взору после ошеломительного вопроса: ...почему надо, чтобы было то, что я знаю? Именно над этой областью незнаемого, то есть той долей бытия, что упорствует в пребывании, когда из бытия устраняется знание , труд вообще, ибо знание трудится - именно над этой долей бытия - проклятой его долей - бессильно бьется мысль Батая. Мысль испытывает свое бессилие, свою немощь, немоготу, невозможность подобрать слова для называния этой зовущей ее (и человека) отдаленной дали пребывающего: ...то, чему я учу (если, правда...) это хмель, это не философия: я не философ, я святой, возможно, просто безумец _ Перед нами мелькает область незнаемого, область провала, который может быть патологическим - и который чаще всего объявлялся таковым - область срыва с лесов разумного, который чуть было не увлек Гегеля в бездну безумия и которого ему удалось избежать лишь в слепом_ и неустанном созидании гигантского Собора своей системы, - то зияние бытия, куда пытается низвергнуть себя Батай, используя для этого сумасшедший маскарад.
Эта невозможная акробатика мысли ( Философия, например, сводится для Батая к акробатике - в наихудшем смысле этого слова _) доставляет обыкновенно недостижимую возможность испытания, опыта мысли в модусе отсутствия; маска позволяет избавиться от самости, от личной манеры мысли: Не будь Гегеля, я должен был бы быть сначала Гегелем; а мне не достает средств. Нет ничего более чуждого мне, чем личный модус мысли. Ненависть к индивидуальной мысли (мошка какая-то, а туда же - утверждает: а я вот мыслю по-другому ) достигает во мне покоя и простоты; выдвигая какое-то слово, я играю мыслью других, ибо наудачу собирал я колоски человеческой субстанции вокруг себя. _ Под маской Гегеля Батай доводит мысль до опыта вакации я , до опыта сознания, не поддерживающегося более его обычными подпорками, до опыта исступления мысли из я - все выразительные трудности которого намечаются в одной из лучших работ П.Клоссовски о Батае. Это мысль на пределе мыслимого, это именно опыт предела мысли и, стало быть, нарушения, преступания, попрания, трансгрессии этого предела: Предел и трансгрессия обязаны друг другу плотностью своего бытия: не существует предела, который абсолютно не поддается преодолению; с другой стороны, тщетна всякая трансгрессия, которая обращается на иллюзорный или призрачный предел ._ И это предельно внутренний опыт человека -- того человека, во вне которого нет более божественного, который сам должен испытать свою божественную суверенность: Смерть Бога, отняв у нашего существования предел Беспредельного, сводит его к такому опыту, в котором ничто уже не может возвещать об экстериорности бытия, а посему к опыту внутреннему и суверенному. Но такой опыт, в котором разражается смерть Бога, своей тайной и светом своим открывает собственную конечность, беспредельное владычество Предела, пустоту этого преодоления, в котором он изнемогает и изменяет себе. В этом смысле внутренний опыт есть целиком опыт невозможного (поскольку невозможное есть то, на что направлен опыт, и то, что конституирует его). Смерть Бога была не только событием , вызвавшим известную нам форму современного опыта: смерть Бога смутно очерчивает его скелетообразную нервюру.