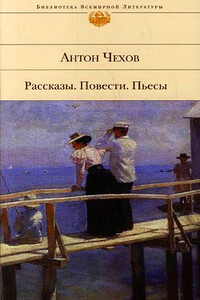Степная дорога ночью | страница 9
– Одначе ж слезай, милый человек, и мне сверток пришел. Вишь, вон крыши-то завиднелись, – тут наш поселок и есть. Зашел бы ты к нам ночевать-то, а то как ты теперича пойдешь один?
– Нет, спасибо! Привык я по ночам-то ходить. Пятачка будет тебе за труды, землячок? – спрашивал я белого парня.
– Кой там пятачок? Свечу про мое здоровье поставь. Прощай! Дай бог путь-дорогу.
И я остался один в ярко светлевшейся степи. Против воли зарябились у меня в глазах и чучело в пять сажен, и маленькие чертенята – воробья не больше, по выражению белого парня. Слышалось мне даже, что белый барашек бежит за мной, – и по телу пробегали какие-то холодные, заставлявшие вздрагивать струйки.
И была, если можно так выразиться, самая глубина ночи. Ни малейшего следа жизни нельзя было подметить на этом неоглядном пространстве. Только по обеим сторонам большой дороги выстроились громадные стоги сена – и незнакомому с местностью проезжающему кажутся они гигантами, быстро несущимися по степи. Слышится ему топот их тяжелый и быстрый – и невольному чувству страха поддается пугливое сердце. То овсяник-медведь напугал табун лошадиный. Вон они, вытянувшись в струнку, полетели к светлому Дону. Не кто другой это, как лошади, потому что при всем том, что далеко ускакали они, еще можно видеть, как месячный луч скользит по хребтам их, жидким и слабым как будто, но которые с такою славой и так долго носят на себе славное войско донское.
А вот из-за густой купы вешек мелькнули белокаменные избы придонского села – и тут тоже беспробудная тишь. Спит село – и спит, можно смело сказать, крепко и сладко, потому что летние работы, характерно называемые в степях страдой, заключают в себе редкое усыпляющее свойство, так что будь хоть какой удалой молодчина, а если он день-деньской промаячится на покосе, так в полночь небось не будет он волком степным красться к гумну своей любы. Нет! Не слыхать ему в эту ночь медовых речей своей разлапы сердечной, – огненных глаз ее целовать молодцу не придется; а если он кого и поцелует, так сонный поцелует подушку свою, к которой пригвоздит его страда; а если он кого и приголубит, так только подобие одно голубицы своей, которое в душе человека, устали и сна не знающей, обыкновенно рисует сон благодатный.
Спит все; на этой общей могиле раздается однообразная, крикливая песня сверчка. Сквозь дальний и редкий перелесок чуть заметной звездою мелькает чумацкий огонь. Густым клубом расстилается по небу сизый дым от этого огня. Смотрит в задымленное окно лачужки своей одинокая бессонная старуха на дым этот и крестится, – крестится и думает: отчего бы этот дым такой сильный был? И пришла к ней в старую голову мысль, что над тем селом, надо полагать, расстилается дым этот, куда отдана замуж ее ненаглядная дочка… И еще пуще, чем прежде, затужила и заскорбела старуха в своей одинокой избенке, – и так-то слезно взмолилась она тогда к матери царице небесной, чтоб дала она ей крылья легкой пташки певучей, чтобы полетела она, сирота горемычная, на тех крыльях легких чрез поля, через Дон и сверх лесу к красавице дочке своей, проведать – не соделалось ли над ее домишком горького горя – пожара лютого?..