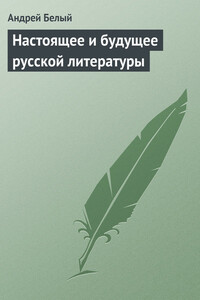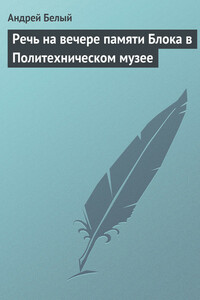Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя | страница 14
«И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышание! Точно как бы вымерло все, как бы, в самом деле, обитают в России не живые, а какие-то «Мертвые души». И меня же упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силою святого духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее – без научения научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России? какими путями могу я научиться? Меня же не научат эти литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель: сами читатели. А читатели сами{15} отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ богу за то, что не исполнил, как следует, своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит бог, говорю недаром!
«Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими перед глазами читателя, так невпопад складу и замашке сочинения,{16} что ввели в заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать и Сочинения, которое хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-как, белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом – можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбранить за дело. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .