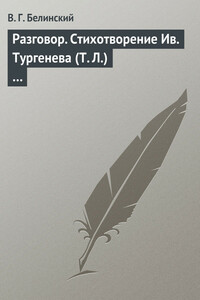<Стихотворения Е. Баратынского> | страница 9
Было время, когда русская критика состояла из заметок об отдельных стихах. «Какой гармонический стих! как удачно воспользовался поэт звукоподражанием: в этом стихе слышен рокот грома и завывание ветра! Но следующий затем стих оскорбляет слух какофониею и притом после отрицательной частицы не поставлен винительный падеж вместо родительного. А вот в этом стихе и ударения неправильны и усечения многочисленны; конечно, пиитические вольности дозволяются стихотворцам, но они должны иметь свои границы. Как удачно вот в этом стихе выражена нежность пастушки и сколько простодушия и невинности в ее ответе!» Так или почти так критиковали поэтов наши аристархи доброго старого времени. С двадцатых годов текущего столетия стали критиковать иначе. Вместо филологических, грамматических и просодических заметок, вместо похвал или порицаний отдельно взятым стихам стали делать эстетические замечания на отдельные места поэтического произведения: такой-то характер выдержан, а такой-то не выдержан, такое-то место поразительно своим драматизмом или своим лиризмом, а такое-то слабо и т. п. Эта критика была большим шагом вперед; но теперь и она неудовлетворительна. Теперь требуют от критики, чтоб, не увлекаясь частностями, она оценила целое художественного произведения, раскрыв его идею и показав, в каком отношении находится эта идея к своему выражению и в какой степени изящество формы оправдывает верность идеи, а верность идеи способствует изяществу формы. Если же дело идет о целой поэтической деятельности поэта, то от современной критики требуют не восклицаний вроде следующих: «Сколько души и чувства в этой элегии г. N., сколько силы и глубокости в этой его оде, какими поразительными положениями изобилует его поэма, как верно выдержаны характеры в его драме!» Нет, от современной критики требуют, чтоб она раскрыла и показала дух поэта в его творениях, проследила в них преобладающую идею, господствующую думу всей его жизни, всего его бытия, обнаружила и сделала ясным его внутреннее созерцание, его пафос. Если мы скажем, что преобладающий характер поэзии г. Баратынского есть элегический, то скажем истину, но этим еще ничего не объясним, ибо характер чьей бы то ни было поэзии еще не составляет ее сущности, как физиономия не поставляет сущности человека, хотя и намекает на нее. Чтоб объяснить то и другое, должно раскрыть идею и в ней найти причину и разгадку характера и физиономию. Что такое