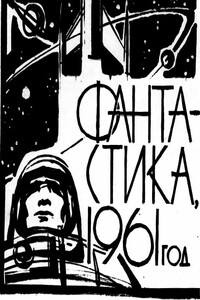Сочинения Александра Пушкина. Статья первая | страница 11
Мы не без намерения делаем эти выписки: свидетельство современников, как всегда пристрастное, не может служить доказательством истины и последним ответом на вопрос; но оно всегда должно приниматься в соображение при суждении о писателях, ибо в нем всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства. Посему мы не раз еще прибегнем к подобным выпискам в продолжение нашей статьи, чтоб показать ими, как смотрели на того или другого писателя его современники, из чего некоторым образом можно судить о степени его важности и в истории литературы.
Громкою славою пользовались у знатоков и любителей литературы того времени четверо писателей из: школы Ломоносова – Поповский, Херасков, Петров и Костров. Поповский обязан своею громкою известностию в то время лестным отзывам Ломоносова о переведенном им стихами «Опыте о человеке» Попа. Вот что говорит о Поповском Новиков:
«Опыт о человеке – славного в ученом свете Попия перевел он с французского языка на российский, с таким искусством, что, по мнению знающих людей, гораздо ближе подошел к подлиннику и не знав английского языка, что доказывает как его ученость, так и проницание в мысли авторские. Содержание сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести ее трудно; но он перевел с французского, перевел в стихи, и перевел с совершенным искусством, как философ и стихотворец; напечатана сия книга в Москве 1757 года. Он переложил с латинского языка в российские стихи{15} Горациеву эпистолу о стихотворстве и несколько из его од; также перевел прозою книгу о воспитании детей, состоящую в двух частях, славного Лока: сей перевод, по мнению знающих людей, едва не превосходит ли и подлинник. Он сочинил несколько речей, читанных в публичных собраниях{16} и также писал торжественные оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображения просты, ясны, приятны и превосходны» (стр. 168–169).
Поповский умер тридцати лет и сжег свой перевод Тита Ливия (которого перевел больше половины) и перевод многих од Анакреона, будучи недоволен своими переводами и боясь, чтоб после его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповского, по своему времени, действительно хороши, а недовольство его несовершенством трудов своих еще более обнаруживает в нем человека с дарованием. Замечательно, что многие места переведенного им «Опыта» были не пропущены тогдашнею цензурою.
Херасков написал целые двенадцать томов. Он был и эпик, и лирик, и трагик, писал даже «слезные драмы» и комедии, и во всем этом обнаружил большую страсть к литературе, большое добродушие, большое трудолюбие и – большую бесталантность. Но современники думали о нем иначе и смотрели на него с каким-то робким благоговением, какого не возбуждали в них ни Ломоносов, ни Державин. Причиною этого было то, что Херасков подарил Россию двумя эпическими или героическими поэмами – «Россиадою» и «Владимиром». Эпическая поэма считалась тогда высшим! родом поэзии, и не иметь хоть одной поэмы народу – значило тогда не иметь поэзии. Какова же должна быть гордость отцов наших, которые знали, что у итальянцев была одна только поэма – «Освобожденный Иерусалим», у англичан тоже одна – «Потерянный рай», у французов одна, и то недавно написанная – «Генриада», у немцев одна, почти в одно время с поэмами Хераскова написанная – «Мессиада», даже у самих римлян только одна поэма, а у нас, русских, так же как и греков, целые две! Каковы эти поэмы – об этом не рассуждали, тем более что никому в голову не приходила мысль о возможности усомниться в их высоком достоинстве. Сам Державин смотрел на Хераскова с благоговением и раз, без умысла, написал на него злую эпиграмму, думая написать мадригал, в стихотворении «Ключ», который оканчивается следующими стихами: