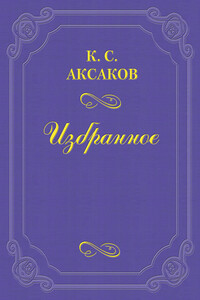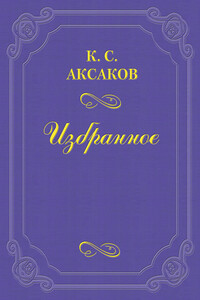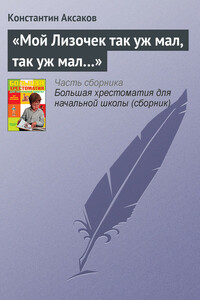Взгляд на русскую литературу с Петра Первого | страница 8
Увы, он не знал, что первый толчок на пути исторических событий развивается в огромные последствия, в огромные размеры, что история вступает в права свои и долго несет одиножды порученное ей бремя, пока не совершит всего круга, пока не истощит всей его тяжести; что нельзя легко отделаться от совершенной однажды ошибки, а надобно выпить всю ее чашу, истощить все последствия. Он не знал, что ум и воля преждевременно понимающего и предусматривающего человека (каков он был) бессильны против хода вещей, что он может только благородно стать против предрассудков, может завязать борьбу, может начать дело, подвинуть будущую эпоху, но что победа не его удел, тем более что он и сам, без его ведома, заражен своею эпохою, против которой борется, и не может он все понять и прямо сказать, чего надо; он может только бороться и кидать мысли. Все это определило характер Ломоносова в деятельности русского просвещения, характер борьбы, не понимаемой современниками, и борьбы без победы, но не без следствия. Его пылкий, неукротимый, независимый, упорный дух придавал особенный характер этой борьбе. С другой стороны, его собственная деятельность была неутомима и многостороння. Он не останавливался на одной борьбе, на одном отрицании; он стремился к положительному; отрицая, с одной стороны, он как бы показывал, с другой, чего надо, по его понятию, и огромными разнообразными трудами оправдывал свою непримиримую вражду к немецкой партии в русской науке.
По крайней мере здесь, с этой стороны его деятельности, встречаем мы на каждом шагу полную преданность науке, неутомимость гениального труда, бескорыстную и пылкую, всю жизнь проникающую любовь к просвещению. И могло ли быть иначе? Архангельский рыбак, он увлекся не фальшивым блеском российского европеизма (он и не знал его), а истинною потребностью знания, которая совпала с переворотом; и деятельность Ломоносова, будучи действительна в своих требованиях и попав в отвлеченную сферу, стала в страшную постоянную борьбу с нею, по крайней мере, с самыми яркими, пошлыми ее сторонами, но, разумеется, отвлеченная и сама уже по сфере своей, в которую стала и в которой боролась, – по своему месту. Деятельность его была многосторонняя: она была и ученая, и поэтическая, и собственно литературная. Поэзия – где было найти ее, когда все было пусто и уединенно кругом нового русского общества для взгляда человека постороннего и свежего, на самом деле, но не для него самого. Оно было довольно, как дитя. Ведь народная жизнь тяжела, ведь она налагает права общего дела, общего труда; и тут вдруг от всего от этого освобождается человек или избранное общество людей, да сверх того даются и даровые средства, почерпнутые из отодвинутого подальше народа. Чего же лучше? Ведь приятно жить не трудясь, на счет других. Какое счастье, поскорее и язык долой, который еще соединяет нас с презираемым народом. И вот, не чувствуя уединения и пустынной тишины земской, новобранное общество запрыгало, залепетало, закричало на разные голоса; нескладный писк и крик заменил некогда раздававшийся величавый голос народный. Как тщательно стирало это общество, эти жалкие дети, всякую последнюю черту русского человека. Презирать русский народ, стыдиться имени русского и русского языка – вот был девиз новобранного общества, безобразного урода русской земли. И все это не выдумка, не преувеличение. Мы еще и теперь встречаем остатки такого направления, и по этим хвостам, даже без особенных сведений, можем судить о целом явлении. И теперь вы можете встретить русского, не знающего по-русски, русского с презрением к народу: вы содрогаетесь… Знайте: это образчик целой эпохи российского образованного общества, это запоздалый в настоящем образ прежнего поколения.