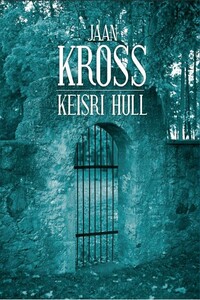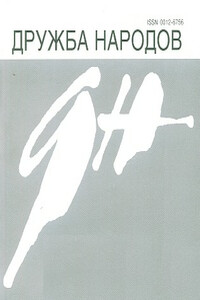, этого я, конечно, не знаю. Ибо я не знаю, в
какой степени она была посвящена в дела Тимо. Но что она на самом деле знает об этом больше, чем она мне говорила, следовательно — больше, чем я, в этом я был совершенно уверен все эти годы. Мы же, все остальные — я и тартуские знакомые Тимо, его родственники и собратья по сословию — после сомнений первого испуга быстро привыкли к уверенности, что Тимо невиновен. Друзья — во имя дружбы, родственники — во имя родственной и сословной гордости. Я же — черт его знает, очевидно, в силу этого проклятого
свойства, которое меня с ним связывает. Очевидно, мне было просто обидно признать умалишенным или преступником чуть ли не единственного для меня (да и для всего эстонского народа) гласно внесенного в церковные книги дворянского родственника… Более приемлемым было считать царя, ну, скажем,
мелочным и какого-нибудь его министра — зловредным, и какого-нибудь его тюремщика — скотиной… Нет-нет, боже сохрани, я не собираюсь оправдывать ужас выбивания зубов, сатанинскую проделку царя с фортепиано, посланным в каземат! И всего остального, что с Тимо совершали и о чем я не знаю. Однако что-то
неминуемо должно было произойти с человеком, дерзнувшим написать страницы, которые я сейчас, дрожа от волнения, читаю за запертой на ключ дверью…
Я бы, наверное, совсем ничего не понял, не окажись среди груды исписанной бумаги отдельный лист, явно послуживший наброском сопроводительного письма, в нем я прочел:
Ваше величество!
То, что я при сем Вам препровождаю, составлено мною для речи в Лифляндском ландтаге[36] предстоящим летом. Действительно, я приступил к работе, имея в виду текст речи. Однако по мере того, как я писал, горестная правда сгустилась до таких пределов, что я понял: только Вам лично я могу это представить.
Все же я до конца придерживался формы выступления в ландтаге. Ибо мне представляется, что таким путем реальность изложенных мыслей становится более очевидной. В силу этой формы Вы острее почувствуете, что для Ваших думающих подданных подобные мысли стали повседневными. Их только пока еще редко высказывают. Я уповаю на то, что моя записка в форме речи для ландтага все же побудит Вас спросить себя: «А что, если подобное выступление в самом деле имело бы место? Если бы я, император, вынужден был признать (ибо я на это способен!), что каждое слово в нем — чистая правда?»
Та самая чистая правда, крупицы которой Вы иногда от меня слышали и которую Вы от меня ожидали.