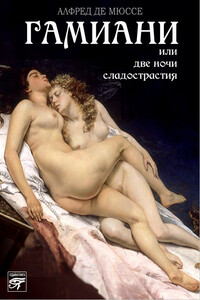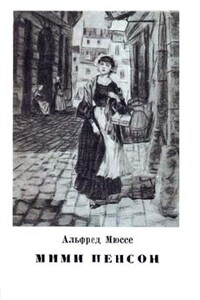Поэты «Искры». Том 1 | страница 41
После каракозовского выстрела Курочкин был арестован и просидел в Петропавловской крепости свыше двух месяцев. Сподвижник назначенного председателем следственной комиссии М. Н. Муравьева П. А. Черевин, вспоминая о 1866 г., писал, что Муравьев «в лице Чернышевского, Некрасова, Курочкиных и др. объявил войну литературе, ставшей на ложном пути»[89]. Весьма показательно, что братья Курочкины названы рядом с Некрасовым и Чернышевским как наиболее заметные и опасные для самодержавия революционные писатели и журналисты. Полицейский надзор был снят с Курочкина только в 1874 г., через год после прекращения «Искры» и за год до его смерти.
Работа в обстановке непрерывных цензурных преследований, при твердом решении не сдавать революционных позиций, подтачивала силы. С начала 1870-х годов бороться с цензурой стало невмоготу. Вспоминая о своей встрече с Курочкиным в 1871 г., после шестилетнего перерыва, П. Д. Боборыкин писал: «Я помнил его еще очень свежим, с мягкими блестящими глазами и благообразной бородой, с некоторым изяществом в туалете и с той особенной бойкой посадкой, какую тогда, т. е. в начале шестидесятых годов, имели люди, веровавшие в свою прогрессивную звезду. А тут мне пожимал руку человек уже далеко не свежий, с сильной проседью, с тревожным взглядом, с несколько осунувшимся лицом и слабым голосом, довольно небрежно одетый»[90].
В 1873 г. «Искра» была закрыта правительством. Для Курочкина это был тяжелый удар. После прекращения журнала, последние два года своей жизни, он «выглядел совсем надломленным человеком. В нем оставалась лишь тень того, что жило в нем во дни оны… В речах Курочкина и в его сухом отрывистом смехе звучала угрюмая, нехорошая нота. Он был рассеян, желчен, недоволен»[91]. Вместе с тем, по словам другого современника, «иногда он, оживясь, рассказывал про свою прежнюю жизнь, про блестящую пору „Искры“, про писателей, которых он знавал. С большою любовью и уважением вспоминал он про Т. Г. Шевченко, с которым сблизился в 1860 г., и про Добролюбова. Об этих двух личностях он говорил мне с чисто юношеским восторгом и со сверкающими глазами. „Вот были люди! — восклицал он. — Ну где вы теперь таких найдете? …Перед памятью Добролюбова он благоговел“»[92].
Курочкину, который был в «Искре» полным хозяином, приходилось теперь, при сношениях с разными редакциями, переживать подчас тяжелые минуты. Когда он вскоре после прекращения «Искры» передал свой перевод поэмы А. Виньи «Гнев Самсона» в «Вестник Европы», А. Н. Пыпин предложил поэту напечатать его анонимно. Курочкин, как ни нуждался, ответил отказом: «Если Вы находите, что подпись моя в цензурном отношении неудобна, прошу Вас стихотворения этого вовсе не печатать»