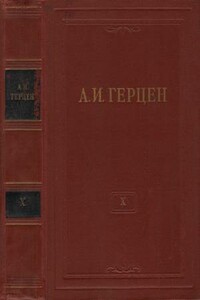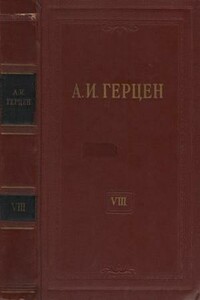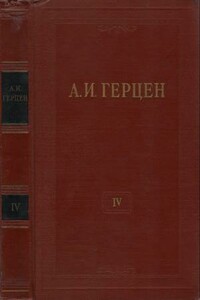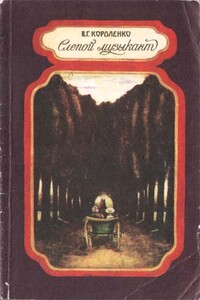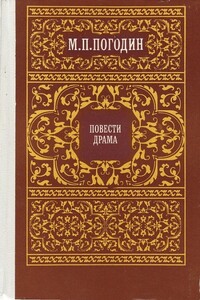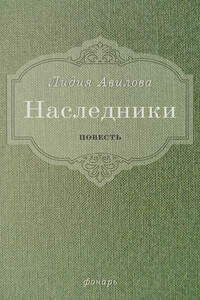Том 6. С того берега. Долг прежде всего | страница 42
– Очень благодарен; по-вашему, я стою на одной доске с Радецким и Виндишгрецом.
– Нет, вы гораздо хуже. Какой же консерватор Радецкий? Он все ломает, он чуть не подорвал порохом миланский собор. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизм, когда дикие кроаты берут приступом австрийские города и не оставляют там камня на камне? Ни они, ни их генералы не знают, что делают, но только они не хранят. Вы всё судите по знаменам: эти за императора – консерваторы, эти за республику – революционеры. Нынче монархическое начало и консерватизм дерутся с обеих сторон. Самый вредный консерватизм тот, который со стороны республики, тот, который проповедуете вы.
– Однако не мешало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, в чем именно вы находите мой революционный консерватизм.
– Скажите, ведь вам досадно, что конституция, которую сегодня провозглашают, так глупа?
– Разумеется.
– Вас сердит, что движение в Германии ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло, что Карл-Альберт не отстоял независимость Италии, что Пий IX оказывается как-то из рук вон плох?
– Что же из этого? Я не хочу и защищаться.
– Это-то и есть консерватизм. Если б ваши желания исполнились, вышло бы торжественное оправдание старого мира. Все было бы оправдано – кроме революции.
– Стало быть, нам остается радоваться, что австрийцы победили Ломбардию?
– Зачем же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардия не могла освободиться демонстрациями в Милане и помощию Карла-Альберта.
– Хорошо нам здесь рассуждать об этом sub specie aeternitatis…[39] Впрочем, я умею отделять человека от его диалектики; я уверен, что вы забыли бы все ваши теории перед грудами трупов, перед ограбленными городами, оскорбленными женщинами, перед дикими солдатами в белых мундирах.
– Вы вместо ответа делаете воззвание к состраданию, которое всегда удается. Сердце есть у всех, кроме у нравственных уродов. Судьбой Милана так же легко тронуть, как судьбою герцогини Ламбаль, человеку естественно сострадать; вы не верьте Лукрецию, что нет больше наслаждения, как смотреть с берега на тонущий корабль, – это клевета поэта. Случайные жертвы, падающие от дикой силы, возмущают все нравственное существо наше. Я не видал Радецкого в Милане, но видел чуму в Александрии, я знаю, как эти роковые бичи унижают, оскорбляют человека, но на этом плаче останавливаться – бедно, слабо. Рядом с негодованием в душе является непреоборимое желание противудействия, борьбы, исследования, изыскания средств, причин. Чувствительностию не разрешишь этих вопросов. Доктора рассуждают о труднобольном не так, как безутешные родственники; они могут в душе плакать, принимать участие, но для борьбы с болезнию надобно пониманье, а не слезы. Наконец, как бы врач ни любил больного, он не должен теряться, он не должен удивляться приближению смерти, неотразимость которой он понял. Впрочем, если вы жалеете