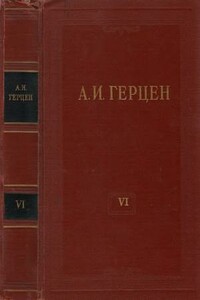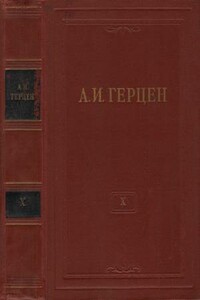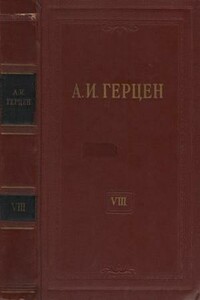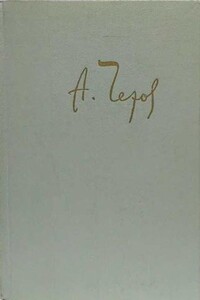Том 4. Художественные произведения 1842-1846 | страница 105
Но зато по маленьким дорожкам деревьям была воля вольная расти сколько душе угодно или сколько соку хватит. На одной-то из них, в теплый апрельский день, пришедший, вероятно, для того в NN, чтоб жители потом поняли весь холод мая, следующего за ним, какая-то дама в белом бурнусе прогуливалась с кавалером в черном пальто. Сад был разбит по горе; на самом высоком месте стояли две лавочки, обыкновенно иллюстрированные довольно отчетливыми политипажами неизвестной работы; частный пристав, сколько ни старался, не мог никак поймать виновников и самоотверженно посылал перед всяким праздником пожарного солдата (как привычного к разрушениям) уничтожать художественные произведения, периодически высыпавшие на скамейке. Дама и кавалер сели на нее. Вид был недурен. Большая (и с большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала в реку; река была в разливе; на обоих берегах стояли телеги, повозки, тарантасы, отложенные лошади, бабы с узелками, солдаты и мещане; два дощаника ходили беспрерывно взад и вперед; битком набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслах, похожие на каких-то ископаемых многоножных раков, последовательно поднимавших и опускавших свои ноги; разнообразные звуки доносились до ушей сидевших: скрип телег, бубенчики, крик перевозчиков и едва слышный ответ с той стороны, брань торопящихся пассажиров, топот лошадей, устанавливаемых на дощанике, мычание коровы, привязанной за рога к телеге, и громкий разговор крестьян на берегу, собравшихся около разложенного огня. Дама и кавалер прервали свои речи и молча смотрели и слушали даль… Отчего все это издали так сильно действует на нас, так потрясает – не знаю, но знаю, что дай бог Виардо и Рубини, чтоб их слушали всегда с таким биением сердца, с каким я много раз слушал какую-нибудь протяжную и бесконечную песню бурлака, сторожащего ночью барки, – песню унылую, перерываемую плеском воды и ветром, шумящим между прибрежным ивняком. И мало ли что мне чудилось, слушая монотонные, унылые звуки; мне казалось, что этой песнью бедняк рвется из душной сферы в иную, что он, не давая себе отчета, оглашает свою печаль, что его душа звучит потому, что ей грустно, потому, что ей тесно, и пр., и пр. Это было в мою молодость!