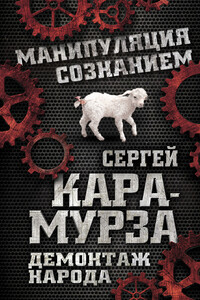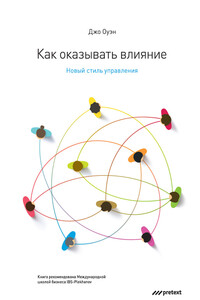Манипуляция сознанием. Век XXI | страница 129
На практике эти приемы играют очень важную роль при внушении получателю доводов отправителя наряду с эстетическим способом убеждения, при котором получателя не столько убеждают, сколько «обольщают», с тем чтобы он в конечном счете принял соблазнительное за убедительное. Броское оформление книги, агрессивный эротизм очаровательной блондинки, раздевающейся на обертке туалетного мыла, метеосводка в форме «песни о завтрашнем дне», исполняемой хором девушек, – все это примеры того систематического и исключительно эффективного смешения категорий, которым широко и умело пользуется политическая пропаганда и которое стало поэтому неотъемлемой чертой современной мозаичной культуры».
Известно, что человек, чтобы действовать в своих интересах (а не в интересах манипулятора), должен реалистично определить три вещи: нынешнее состояние, желательное для него будущее состояние, путь перехода от нынешнего состояния к будущему. Соблазн сэкономить интеллектуальные усилия заставляет человека вместо изучения и осмысления всех этих трех вещей прибегать к ассоциациям и аналогиям: называть эти вещи какой-то метафорой, которая отсылает его к иным, уже изученным состояниям.
Чаще всего иллюзорна и сама уверенность в том, что те, иные состояния, через которые он объясняет себе нынешнее, ему известны или понятны. Например, российский патриот из оппозиции говорит себе: нынешний режим – как татарское иго. Он уверен, что знает, каким было татарское иго, и в этом, скорее всего, его первая ошибка и первое условие успеха манипуляции. Вторая ошибка связана с тем, что метафора татарского ига в приложении к конкретному политическому и экономическому режиму начала XXI века непригодна, она не обладает достаточной степенью подобия, чтобы что-то объяснить. Здесь – второй источник силы манипулятора.
Запад в его социальных учениях усвоил традицию метафорического мышления больше, чем Россия. А от Запада – и питавшаяся его идеями либеральная интеллигенция других стран («западники»). Возможно, это произошло в силу дуализма западного мышления, его склонности во всем видеть столкновение противоположностей, что придает метафоре мощность и четкость: «Мир хижинам, война дворцам!» или «Движение – все, цель – ничто!».
Историк А. Тойнби на большом материале показал, что глубокие преобразования начинаются благодаря усилиям небольшой части общества, которое он называл «творческим меньшинством». Оно складывается вовсе не потому, что в нем больше талантов, чем в остальной части народа: «Что отличает творческое меньшинство и привлекает к нему симпатии всего остального населения, – свободная игра творческих сил меньшинства».