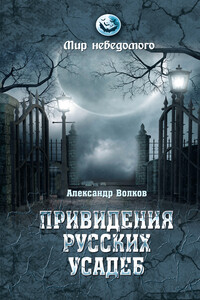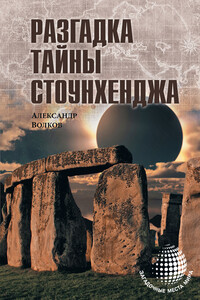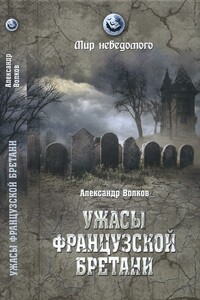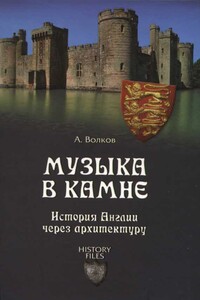Из жизни английских привидений | страница 2
Вера и страх
Попытки рационалистов и скептиков найти объяснения призрачным феноменам столь же древни, как и сами свидетельства о них. Гиппократ в V в. до н. э. оценивал состояние людей, встречавшихся с мертвецами, с сугубо медицинской точки зрения, а Лукиан (120–180) в разговоре «Любители лжи» ставил в пример философа Демокрита, который поселился в надгробном памятнике за городскими воротами, чтобы разоблачить неких юношей, нарядившихся покойниками.
Столь уважаемый знаток мистических откровений, как сэр Вальтер Скотт (1771–1832), полагал, что они вызваны ярким сном, пробуждающейся мечтой, расшалившимся воображением или обманом зрения, но ничуть не сомневался в правдивости самих рассказчиков — людей разумных, искренних и решительных. Увы, наше время разучилось выделять честных и достойных людей в огромной, не имеющей классовых и сословных границ человеческой массе. Нынешние авторитеты не склонны доверять свидетельствам очевидцев, справедливо полагая, что среди них слишком много мошенников, ищущих способ заявить о своей индивидуальности. И хотя их видениям могут даваться вполне научные определения — галлюцинации, иллюзии и т. п., все чаще они оборачиваются мистификацией, в которой охотно признаются сами же авторы после того, как добились нужного эффекта. Такие мистификации и розыгрыши, конечно, ничего не доказывают. Еще Гилберт К. Честертон (1874–1936) говорил, что «фальшивые привидения не опровергают существования привидений, как фальшивая банкнота не опровергает существования банка — скорее она его подтверждает»[1].
В остальном позиции скептиков мало изменились. Сэр Вальтер отмечал немногочисленность свидетелей, непосредственно наблюдавших призраков. По мнению писателя, рассказчики обычно слышат историю от того, с кем это случилось, или, что более вероятно, от его семьи или от друга этой семьи[2]. Вот и современные психологи выработали механизм формирования подобных легенд, распространяющихся в обществе наравне со слухами. Как правило, складывается ситуация, когда рассказчик привидение не видел, но слышал о нем от другого человека, которому рассказывал очевидец.
Подметим еще одну черту в характере скептика. Сэр Вальтер гордился образованностью обычного механика, позволяющей ему посмеяться «над вымыслами, которым в прежние времена верили люди, намного более осведомленные в знаниях своей эпохи»[3]. В XXI столетии идея прогресса привлекательности не утратила. Наш скептически настроенный современник непоколебим в чувстве превосходства над необразованными предками, подвластными обманам и суевериям. В свое время Честертон обратил внимание на воинствующий догматизм цивилизованного человека: «Я говорю: “Средневековые документы сообщают об известных чудесах точно так же, как они сообщают об известных битвах”. Мне отвечают: “Средневековые люди суеверны”. Если я пытаюсь понять, в чем их суеверие, единственный решительный ответ — “они верили в чудеса”. Я говорю: “Крестьянин видел привидение”. Мне отвечают: “Но крестьяне так легковерны”. А если я спрошу: “Почему же легковерны?” — ответ один: “Они видят призраков”».