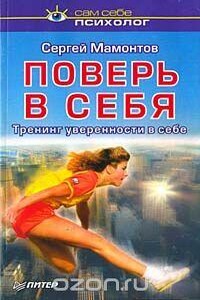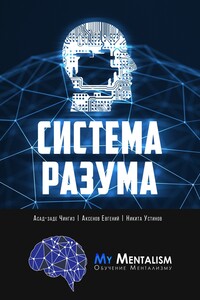Гипноз. Скрытые глубины: История открытия и применения | страница 11
Все эти феномены гипноза можно рассортировать по трем направлениям — восприятия, диссоциации[8] и внушаемости. Человек под гипнозом стремится полностью включиться в то, что он воспринимает, воображает или выдумывает, при этом он отстраняется от процесса обдумывания, оценки поступков и сравнения их с предшествующим опытом, что имело бы место в нормальном состоянии (так, например, поднятие руки может показаться непроизвольным, как будто она управляется кем-то другим). У индивида наблюдается рост уровня восприимчивости к знаковым требованиям окружения, вследствие чего человек подчиняется всем инструкциям гипнотизера. Здесь необходимо отметить, что субъект вовсе не отдает свою волю в распоряжение гипнотизера, а только приостанавливает на время критическое осмысление происходящего. Под гипнозом человек способен говорить и действовать, а, значит, он не просто спит или находится в бессознательном состоянии. Важно добавить, что участие индивида или индивидов в процессе может происходить только с их согласия (но это не равноценно фразе «индивид должен хотеть», ведь акта осознанного хотения может и не быть): нельзя загипнотизировать того, кто категорически не согласен быть загипнотизированным.
Предлагаемая мною модель одновременно достаточно широка и чересчур узка. Так, например, под нее подпадают проклятия, поскольку при этом происходит прямое намеренное воздействие на индивида. Но она исключает такие феномены, как колдовство, где околдованный человек не осознает, что подвергся преднамеренному воздействию. Как правило, исключительно в «примитивных» сообществах все неудачи относят на счет врагов, которые обязательно обладают способностью накладывать заклятья. В любом случае, если колдовство и имеет место, то оно никак не связано с гипнозом — жертва не предупреждается о времени наложения заклятья и отсутствует прямой контакт между колдуном и объектом колдовства. Эта модель также исключает трансовые состояния, возникающие при просмотре телевизионных программ или при езде на автомобиле («гипноз автомобилистов»). Думаю, что любой водитель когда-либо при размышлении о проделанном пути внезапно осознавал: «Я точно знаю, что проезжал через Ньюкасл, но ничего не помню о транспортных потоках, светофорах, окружных дорогах и т. д. Как же я это проделал?» Лично я не уверен, что по поводу приведенного примера вообще можно говорить о «впадении в транс», в противном случае слишком легко свести к таковому практически любое состояние нашего сознания. Означает ли моя сосредоточенность на написании этой книги то, что я в трансе? Говорить так значило бы злоупотреблять данным термином; в любом случае здесь нет гипноза, хотя бы по той причине, что нет гипнотизера (оператора).