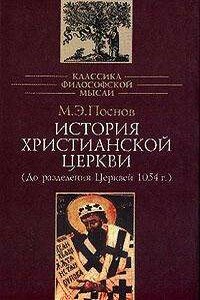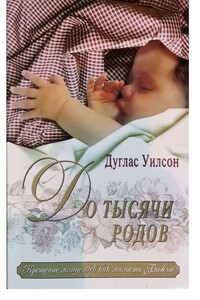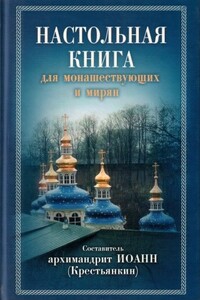Истина протеста | страница 21
Закономерно должен быть поднят вопрос: не является ли это вероучение просто очередным толкованием креста, одним из тех толкований, ограниченность которых уже была подчеркнута? Если это так, тогда это учение не может претендовать на подлинную истинность. Оно тогда остается лишь одним из возможных подходов к тайне креста, к его откровению. Как же это будет сочетаться со столь важным местом, которое учение об оправдании занимает в лютеранской теологии? Наряду с таким, «специфически лютеранским», толкованием креста мы должны были бы признать правомерность и множества других.
С таким утверждением отчасти можно было бы согласиться. И в этом не было бы ничего страшного, трагического. Никто не в силах вместить в себя всю тайну креста, поэтому всякий всегда воспринимает ее в каких-то ограниченных рамках. Это естественно для каждого человека и для каждой церкви. Протестантские церкви и их вероучение здесь не являются исключением. Повторюсь, такой подход был бы вполне правомерным.
Можно попытаться ответить на этот вопрос совершенно иначе и постараться увидеть в протестантском вероучении все же нечто большее. И этот подход кажется мне более плодотворным. Он состоит в том, что реформаторское провозвестие об оправдании в своей глубинной основе – это не одна из возможных ограниченных интерпретаций события креста, а попытка выразить всю радикальность и исключительность этого события как откровения Божьего. Именно поэтому лютеранство видит в оправдании не одно из возможных вероучений, а нечто, что стоит над ними и за ними, что в принципе не противоречит многим конкретным вероучениям, существующим в тех или иных церковных, конфессиональных традициях, нечто, что может быть выражено и осуществлено и через их посредство.
Впрочем, необходимо признать, что само по себе слово «оправдание» вполне может ввести в некоторое заблуждение. Это понятие (уже потому для многих чуждое, что укоренено прежде всего в западной церковной традиции) взято из судебного языка и потому неизбежно ассоциируется с чем-то «законническим», с юридической сферой. В этом смысле уместны сомнения: насколько такой сухой, холодный, абстрактный и отстраненный, «объективный» юридический язык подходит для описаний отношения человека и Бога. Однако в использовании такого языка (которое ведь к тому же не произвольно введено западными богословами, а коренится в новозаветной традиции, хотя, конечно, и не является в ней чем-то исключительным) есть глубокий смысл. Такими судебными терминами подчеркивается предельная серьезность отношений человека и Бога, подчеркивается, что речь идет о жизни и смерти, о вине и о гневе. Немаловажную роль играет и то, что юридический язык очень ярко может показать внешний, независимый от внутренних, душевных реалий характер Евангелия (речь о котором пойдет ниже). Именно поэтому такой по-своему жесткий и категоричный, а также «объективный» язык имеет право на существование, и протестантизм продолжает верно держаться за него.