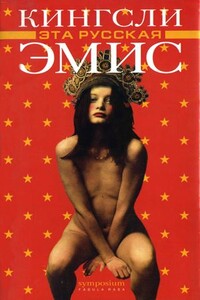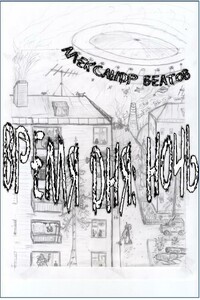Спящие от печали | страница 37
Стесняясь теперешнего своего положения, жил он в бараке наособицу, ни с кем не знакомясь. Ему хотелось оставаться в памяти людей полным сил, подтянутым и бравым, не смотря ни на что. Бухмин затворился; он словно умер для всех, скрывая свою дряхлую немощь от любого внимательного взора.
Тут, в бараке, Бухмин разговаривал только с покойной женою. И собирался спать так, как собираются на охоту: влезал в валенки, хотя и в них ноги его ночью не согревались, надевал тужурку, подпоясывал её полотенцем, чтобы она не задиралась во сне и чтобы вечно зябнущий живот не оголился невзначай.
Даже во сне Бухмин лежал, вытянувшись во весь рост. Он будто принимал парад: минувшее повторяло себя ночами в точном соответствии с давней его жизнью. Оно было похожим на чёрно-белый блестящий мрамор с нежнейшими дымчатыми прожилками. Давние события сделались его новыми, барачными, снами – тёмно-светлыми, как документальный фильм без конца и начала. А цветные вкрапления в его прошлом уже почти не встречались; многое выгорело, обветшало, многое полиняло за долгую жизнь, хотя и оставалось ещё в памяти кое-что особенное, не боящееся тления ни сколько…
Этой ночью Бухмин снова был курсантом, безнадёжно влюблённым в женский полк. Маленькие девушки-связистки проходили перед ним, бойко топая просторными солдатскими сапогами по белой мостовой. Утренний волжский городок тоже глазел на мелкорослый полк белёсыми запылёнными окошками. Улицы сбегали к реке, но замирали, споткнувшись о меловые карьеры с белыми, довоенными, отвалами, прибитыми дождями. А девушки, похожие на шестиклассниц, шагали дальше, к пристани, по белой наезженной дороге, размахивая руками, как взрослые солдаты. За малый рост, на подбор, они прозывались малокалиберными, а ещё – карандашами, и внушали Бухмину умильное желание опекать каждую из них – равно.
Бухмин, однако, изменил полку довольно скоро – когда увидел возле вокзала одну, высокую, стеснявшуюся своей худобы. В белом ситцевом платке, в тесной тёмной кофте, вязаной пупырышками, она оглянулась на бегу. Пасмурный, торопливый взор коснулся издали губ поэта. В тот миг женский задорный полк померк в его восторженном сознании, а там и забылся всем боевым составом…
Но эта, самая лучшая, незабываемая, с тревожной сумеречной тенью в глазах, едва не убежала от него тогда в грохочущее железом депо, размахивая полупустой авоськой с завтраком для отца. Зато потом она смотрела на Бухмина с перрона, припудренного меловой пылью, и шла вдоль состава, и бежала за ним. И в пасмурных глазах её плыли дождевые тучи. А он, в новой шинели, с лёгким вещмешком на плече, кричал сквозь белый пыльный ветер с подножки поезда, идущего на юго-запад: