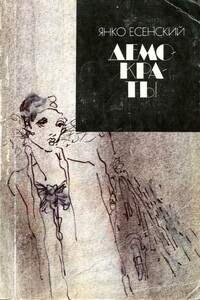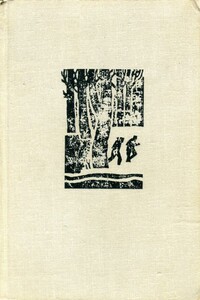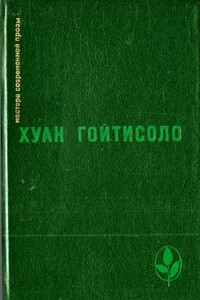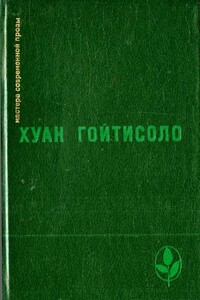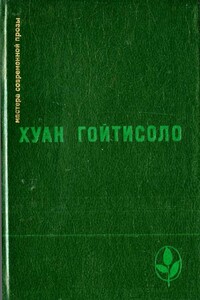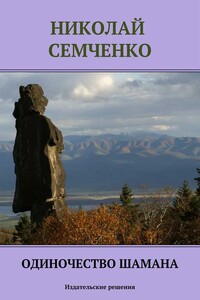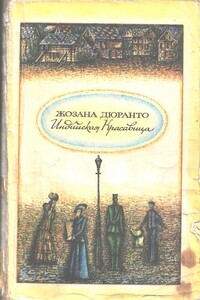Особые приметы | страница 32
Ты разглядывал темноволосую девушку на фото, которая обнимала ребенка, а Херонимо пояснил: «Сын и жена».
— А где они?
— Не здесь.
— А ты с ними не видишься?
— Может, удастся в конце года.
Несколько раз в тот жаркий август и потом в сентябре, когда собирали виноград, ты приходил ночью на сеновал и не находил его. Херонимо возвращался из лесу лишь к рассвету, но теперь ты уже не беспокоился, а он умывался и шел работать вместе с остальными батраками.
Было начало октября — ты хорошо помнишь, как раз перед началом занятий в школе, накануне возвращения в Барселону, ты напрасно прождал его всю ночь — он так и не пришел. Ты вернулся к себе, весь продрогнув, тревога и беспокойство мучили тебя, тревога и беспокойство, тебе еще незнакомые, которые ты узнал гораздо позднее, когда уже был влюблен в Долорес и жил на улице Вьей-дю-Тампль, казалось, созданной для любви и счастья, а ты — по собственной вине — не имел ни того, ни другого. Это произошло в один из тех нищих и уродливых годов, которые потом были наречены Годами Мира.
Хоаким не мог понять, в чем дело (Херонимо ушел, не взяв расчета), и когда под вечер у вас появились жандармы и стали расспрашивать про него, сердце твое забилось как сумасшедшее, а в голове загудело, точно к ушам приложили радужную перламутровую раковину.
И тогда ты узнал — из разговоров с Хоакимом, дядей Сесаром и ликовавшей тетей Мерседес, — что на самом деле звали его не Херонимо, что он тайком перешел Пиренеи во главе целой шайки преступников и что он — у них есть доказательства — один из вожаков маки, которые действуют в этом районе.
— Важная птица, — сказал жандармский сержант. — Вчера ночью мы заметили его в нескольких километрах отсюда, когда он шел к своим в горы, и во время перестрелки он ранил одного из наших.
Каким печальным было твое возвращение в интернат — в угрюмые классные комнаты и сонные коридоры; каким холодным и никчемным показался тебе школьный мир с его покаянием и грехами, мессами, уроками и молитвами — мутное, однообразное существование; горечь и злоба копились у тебя в груди капля за каплей до тех пор, пока наконец ты не вырвался на волю, поступив в университет.
О Херонимо ты больше никогда ничего не слышал. Может, после этой смелой, но окончившейся поражением борьбы он опять перешел границу, а может, думалось тебе иногда, — и при этой мысли сердце твое, даже спустя многие годы, начинало биться в тревоге, — может, он лежит в безымянной могиле, в каком-нибудь забытом углу вашей — вашей ли? — испанской земли. Как низко пала, как глуха была твоя родина, — именно к этому заключению ты приходил временами, — если щедрый дар Херонимо оказался ненужным. Но нет, думалось тебе, не может быть, чтобы это был конец, ведь ждут же твою страну лучшие времена, и ты поймешь и заставишь понять остальных, что Херонимо, — или как там звали этого человека, чья духовная чистота разбудила в тебе нравственное чувство, — умер за всех и каждого из вас, да ты уже и понял, — боже мой, как больно и как стыдно было тебе, когда ты это понял! — что умер он и за тебя.