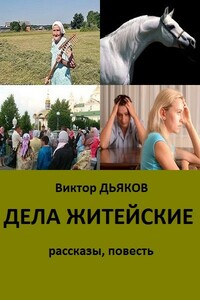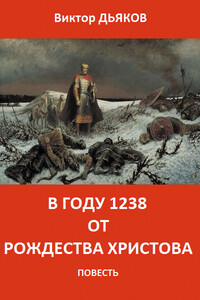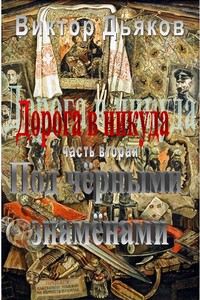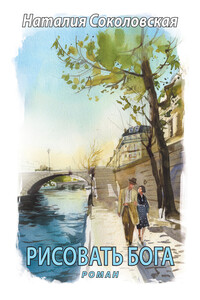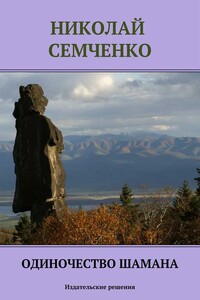Путешествие на Бухтарму | страница 37
Вода в водохранилище была средней температуры, теплее чем в Катуни, но с «Обским морем» не сравнить, холоднее. Причем вдали от берегов она оказалась теплее, чем в «Голубом заливе». Когда на парусники вышли на середину водохранилища, капитан объявил: кто хочет искупаться в теплой воде, ныряйте прямо с палубы. Сергей с Любой заранее знали об этой «услуге» и потому взяли с собой купальные принадлежности. Когда нырнули… и в самом деле здесь вода была градуса на два-три теплее чем в заливе.
В процессе «круиза» который продолжался более шести часов, причаливали к различным пристаням и общались с местными. Они охотно вступали в контакт и в разговорах, через нарочито-напускную веселость постоянно ощущалась какая-то особая, слышимая не ухом, а каким-то внутренним нервно-ментальным органом, что бывает только при общении людей одной нации… То было нечто подобное неслышимому стону, стону от безысходности. Казалось они все не знали зачем живут, и в этой безысходности как за соломинку цеплялись за мифологическую надежду, что Рудный Алтай, как часто именовали Восточно-Казахстанскую область, вернут в Россию. Здешние русские в отличие от тех, что в Прибалтике «вцепились» в более высокий чем в России уровень жизни и бытовой культуры, и тех, кто в Средней Азии и Закавказье встали «раком» перед «коренными» всячески перед ними лебезя и унижаясь… Нет, эти не имели, ни обеспеченной жизни, но и перед новой титульной нацией в «согнутое» положение не становились. Они оставались до конца русскими, пожалуй даже став после развала Союза еще более русскими, чем были до того, чем русские живущие в России. Они все без исключения хотели в Россию… но только со своей землей, которую обустраивали не одно поколение их предков. В разговорах они почти не жаловались, только «эзоповым языком» констатировали, что на своей земле стали после девяносто второго года людьми второго сорта, что их просто пропили тогда в Беловежской пуще. Говорили и то что область, бывшая в советские времена процветающей, в основном за счет своей развитой горнодобывающей промышленности и цветной металлургии… Сейчас область влачила жалкое существование. И все это было наглядно отображено в виде безжизненных больших и малых предприятий, зияющих пустыми окнами многоквартирных домов в расположенных вдоль побережья городах и рабочих поселках: Серебрянске, Новой Бухтарме, Октябрьском, Первомайском. Апофеозом общения с местными жителями стал вопрос, заданный на причале поселка Октябрьский, мальчиком лет двенадцати, удившему рыбу прямо с дебаркадера. Когда Сергей поинтересовался у него, как улов, маленький рыбак, кивнув на ведерко, в котором плескалось несколько небольших окушков, поднял все те же «стонущие» глаза и спросил: