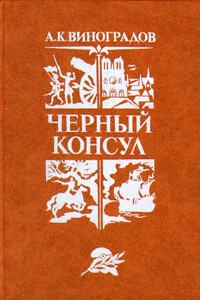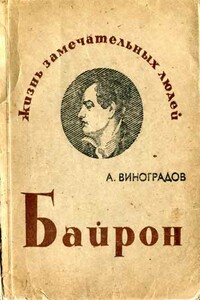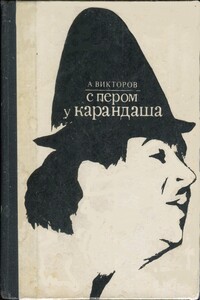Стендаль | страница 4
Но ни о каком своем участии в заговоре он не писал. И не из соображений конспирации или из боязни репрессий. Весь тон этой записки таков что, будь она известна властям, молодой отставной офицер непременно угодил бы в тюрьму. Дело, думается, обстояло так: Стендаль в то время ненавидел Наполеона, очень уважал генерала Моро, в ходе процесса последнего следил за развитием событий и, как «заговорщик», обсуждал их с друзьями, страстно желая падения Бонапарта. Ни о какой связи
Стендаля с Кадудалем и вообще с активными заговорщиками не может быть и речи.
Несколько иначе обстоит дело с отношениями писателя и итальянских карбонариев. У Стендаля действительно было немало друзей и знакомых среди итальянских революционеров. Он, безусловно, мог кое в чем помогать им, выполнять их мелкие поручения (перевозить письма, собирать необходимую информацию и тому подобное). Но опять-таки остается сомнительным, что Стендаль входил в какую-либо карбонарскую венту. Уважая и восхищаясь революционерами, он весьма скептически относился к их деятельности, справедливо полагая, что путем узких заговорщических обществ нельзя добиться желаемых результатов. Недаром писал он в «Прогулках по Риму»: «Что может быть смешнее человека, который захотел бы купить Лувр за двадцать тысяч франков? Таковы заговорщики». Вообще А. К. Виноградов явно преувеличивает степень организованности и массовость карбонарских обществ. Он говорит даже о «большой европейской Карбонаде», включая в нее не только Уго Фосколо и Сильвио Пеллико, не только Байрона и Буонаротти, но и русских декабристов. Это явное преувеличение.
Не вполне правильно трактует А. К. Виноградов и отношение Стендаля к Италии. Верно отметив любовь писателя к родине Данте и Чимарозы, исследователь пишет в конце концов о том, что Стендаль перешел в итальянское гражданство. Однако в действительности этого не было. А. К. Виноградова, очевидно, смутил тот факт, что сам Стендаль в многочисленных своих завещаниях не раз называл себя «миланцем» (так, между прочим, и написано на его надгробии) Но считать себя итальянцем и юридически принять итальянское гражданство — это все-таки разные вещи.