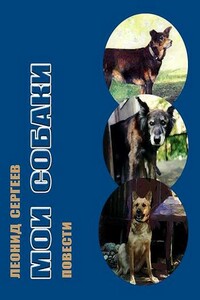Избранное | страница 43
Курзал
(Каков он в длину? В ширину? В высоту? Эти данные я запишу позже. Это крайне необходимо. Осталось так мало конкретных вещей.
Ниша, где я сидел на диване, положив ноги на железный садовый стульчик, была когда-то приемной, бюро, развороченным и искореженным по случаю бала. Однако стены и перегородки были на месте, и я смог, оставаясь незамеченным, подслушать разговор двух танцоров. Их слова долетали до меня столь отчетливо, будто в панелях из бирманского розового дерева прятались стекловолокнистые звукоулавливатели.
При свете канделябра из бронзы и граненого стекла: позвонки, проступающие на ее спине, и шесть мушек.
И вот начало: я вошел под свод, отделанный зеленым гранитом и поддерживаемый стенами из пентиликанского мрамора, прошел сквозь занавес теплого воздуха у главного входа — прошел, в первый раз одержимый чем-то неведомым.)
ПРИДВОРНЫЙ (его венецианское облачение только подчеркивало в нем фламандца. Серебристый нейлоновый парик сидит на голове кое-как: над ушами и на затылке из-под него выбиваются волосы. Стоит мне увидеть парик, и я сразу вспоминаю своего отца, который в составе любительской труппы играл в комедии «У дядюшки пастора». Моя мать говорила: «Смотри, вон твой папа!» И показывала мне на сцену, где держал монолог угрюмый худой человек в черном балахоне. Льняные волосы, отсвечивающие белым, лежали тугими локонами. «Видишь ты его или нет? Да вон же он, сонная ты муха, этот пастор и есть твой отец. Ты что, не узнаешь его?» Белое как мел лицо, полосы сажи на щеках, черные кренделя по обе стороны носа, крылья которого были оттенены серым гримом, перекликавшимся с серым вокруг глаз. Все это говорило о старости, нищете, болезни. Сгорбленный человек, надрывно кашлявший при свете рампы, не мог быть моим отцом, никогда, и я тут же потерял к пастору всякий интерес, убежденный, что мама, как всегда, хочет обмануть меня, чтобы потом посмеяться над моим легковерием, я отчаянно пялился на других персонажей, пытаясь узнать отца в деревенском нотариусе, в каждом из крестьян, по ходу пьесы без конца делившихся какими-то воспоминаниями, но все они были либо слишком маленькими, либо слишком толстыми, либо слишком подвижными. Я долго искал его, пока наконец в одной волнующей сцене пастор, прошептав племяннице, что дни его сочтены, не повернулся спиной к публике, и тут под его париком и известково-белыми оттопыренными ушами дядюшки пастора я узнал такой знакомый, ничем не прикрытый затылок. «Папа!» — закричал я, и мама долго успокаивала меня, пока я не начал смеяться и плакать от страха…