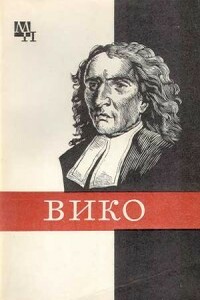Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 62
И вот французскому обывателю с середины 20-х годов вдалбливали в голову, что прошлое не повторится, что безопасность Франции надежно обеспечена и что германский дракон, буде сунется, неминуемо обломает зубы о стальную броню укреплений, растянувшихся на сотни километров. А немцы-то и штурмовать ее не стали, эту неприступную линию Мажино, они обошли ее с тыла и захватили тысячи дотов, десятки крепостей, массу вооружения и гарнизоны совсем «тепленькими». И предвидеть этот маневр заранее великие стратеги Елисейского дворца, все эти Петены, Вейганы, Гамелены и другие наследники «великого» Фоша, никак не могли. Это было выше их умственных сил, да и, кроме того, они-то знали, что Франция по-настоящему к войне не готова и, следовательно, «если бы линии Мажино не было, ее стоило бы выдумать». Ведь надо же иметь козыри в парламентской игре за теплые местечки на государственной службе.
Со времени образования массовых армий и введения всеобщей воинской повинности военное поражение страны всегда свидетельствовало о глубоких социальных дефектах режима. Третья французская республика не составляет исключения из этого правила. Ее позорная капитуляция в июне 1940 года — вернейший показатель неспособности французской буржуазии руководить страной. Корыстолюбивая и недальновидная, боявшаяся собственного народа больше, чем нацизма, эта буржуазия от хвастливой самоуверенности быстро перешла к раболепной покорности и «сотрудничеству» с оккупантами, как будто возможно сотрудничество между поработителями и порабощенными. Лозунг «сотрудничества» с немецкими оккупантами стал определяющей политической формулой «дурной веры» на долгие четыре года, пока Франция оставалась порабощенной.
Война и поражение внесли дух политики в дом каждого француза, как бы далек он ни был от непосредственной политической борьбы. И литературная деятельность Сартра очень рельефно отразила этот процесс. Атмосфера «Тошноты», можно сказать, совершенно «аполитичная», да и сам роман построен монологически, чему способствует форма дневника. Совсем другое дело — следующее прозаическое произведение Сартра — трилогия «Дороги свободы» (отрывки четвертого тома под названием «Последний шанс» появились в редактируемом Сартром журнале «Тан модерн» еще в ноябре — декабре 1949 года, но с тех пор продолжения не последовало и, по-видимому, не последует, так что это произведение приходится называть трилогией).
С самого начала в трилогии присутствует «собственной персоной» история. Разве что в первом романе «Зрелый возраст» эта тема звучит приглушенно, но уже во втором — «Отсрочка» — исторические события живописуются в хроникально-документальной манере, наряду с изображением «личной жизни» героев и их взаимоотношений. Здесь на Сартра оказала влияние литературная техника Дос Пассоса, которого он даже однажды назвал «величайшим романистом нашего времени». В «Отсрочке» время действия обозначено совершенно точно: 23—30 сентября 1938 года. Эта неделя вошла в историю XX века как один из самых удручающих эпизодов политической слепоты и политического предательства: «великие западные демократии» с головой выдали Чехословакию (с которой были связаны пактом о взаимопомощи) Гитлеру и назвали эту акцию «спасением мира».