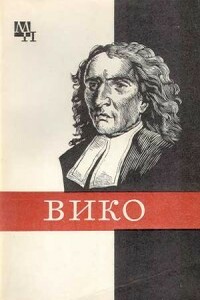Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 56
Рокантен скорбит о том, что реальное время, время событий, совершающихся в действительности, представляет собой, говоря словами Гегеля, «дурную бесконечность» — монотонную последовательность не связанных друг с другом моментов, беспрепятственно стремящихся куда-то в неопределенно далекое будущее, никогда, собственно, не наступающее. Иное дело — время романа или рассказа. Оно организовано и завершено и все пронизано единой «интенцией» — целью, реализуемой в конце рассказа полностью, но незримо присутствующей в каждом его фрагменте и превращающей этот отрывок в обещание и, следовательно, приключение.
На примере этого рассуждения легко понять самый метод, при помощи которого Сартр (вместе с Рокантеном) приходит к столь неутешительному мнению о природе реальности. Этот метод состоит в абсолютном разведении в разные стороны сознания и реальности. Мы об этом уже говорили немного раньше, теперь продолжим эту тему дальше. Сартр исходит из предпосылки, что бытие-в-себе ничем не может быть похоже на бытие-для-нас (т. е. на бытие, как оно воспроизводится в нашем сознании). Природа реальности определяется «методом вычитания» из всего того объема информации, который мы получаем, созерцая мир. Но созерцание, по Сартру, знакомит нас только с предметно представляемыми и мыслимыми сущностями, а не с самим существованием. Поэтому если устранить все присущие сознанию характеристики, то мы и получим иррациональное, непроницаемое бытие-в-себе.
Сартр и вообще экзистенциалисты очень облегчают себе дело тем, что не принимают во внимание процедур научного познания, ограничиваясь общей «критикой науки»[38]. Однако им следовало бы задуматься над вопросом, при каких условиях мы можем получать при посредстве науки практически полезную информацию о мире и согласовать свою теорию познания с этими условиями.
Сартровское понимание бытия-в-себе особенно явно демонстрирует свою несостоятельность при интерпретации социальной реальности, которая является собственным творением человека с его целеполагающей активностью. Здесь и вовсе не приходится говорить о непроницаемой для сознания реальности, потому что в обществе и вся природная среда очеловечивается, и человек созерцает себя в созданном им самим мире. Продукт труда, даже если он противостоит своему создателю как нечто чуждое и порабощающее его (в условиях капитализма), все равно остается материальным воплощением, объективацией, как говорил молодой Маркс, «человеческих сущностных сил» и уж по одному этому не может быть иррациональным бытием-в-себе, как предполагает схема Сартра.