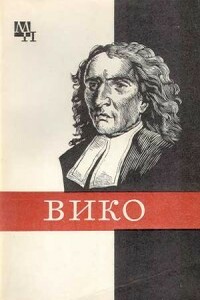Философская эволюция Ж.-П. Сартра | страница 47
Вообще следует сказать, что, будучи рационалистом по своему идеалу (в начале 60-х годов Сартр заявил, что с самого начала литературной деятельности его определяющим стремлением было «ясно видеть»), Сартр в понимании фактической стороны психической жизни человека принимает позицию иррационализма. Несмотря на развернутую критику фрейдовского психоанализа, который он объявил формой ложного самосознания (все той же «дурной веры»), он в действительности во многом повторяет психоаналитическое объяснение, хотя и в несколько иной словесной редакции. Так, например, отвергая бессознательное, он восстанавливает едва ли не все его функции в концепции дорефлективного самосознания.
Да и само понимание фундаментального проекта человеческого существования у него, в сущности, выдержано в духе позднего, так называемого «метафизического», фрейдизма, согласно которому все проявления психической активности человека могут быть сведены к одному и тому же фундаментальному инстинкту жизни — «эросу» (иногда Фрейд говорил и о противоположно направленном инстинкте смерти, коренящемся в том же «эросе»). Но такой способ объяснения привел психоанализ к абстрактно-философскому стилю мышления, первоначально совершенно ему чуждому. Сам того не замечая, Фрейд, врач по профессии, воспитанный в русле естественнонаучного материализма, под конец жизни оказался в одной компании с «метафизиками» и врагами научного объяснения человека вроде Шопенгауэра и Ницше. Проблему мотивации человеческой деятельности Шопенгауэр и Ницше решали очень просто: они отождествляли человеческое поведение с космической силой жизни, единосущной и творящей, неподвластной закону и разуму. Все поступки человека, с этой точки зрения, несут на себе отпечаток таинственного шифра мировой жизни, не укладывающейся в понятия рассудка.
Философия жизни шопенгауэровско-ницшеанского типа более всего способствовала проникновению в психологию биологических моделей, и прежде всего модели инстинкта. Под влиянием таких представлений и самое человеческую жизнь старались интерпретировать как функцию многообразия исходных инстинктов, конкретизирующих и символизирующих одну и ту же стихийную силу жизнеутверждения, или «воли к власти». Конечно же, говорить о научной обоснованности этого подхода не приходится: проверить его предпосылку просто невозможно, тем более что исходное понятие жизни и жизнеутверждения не имеет четкого определения, а отсюда и концептуальная неопределенность, «размытость» всего построения. Такая неопределенность, разумеется, только на руку защитникам «глубинной психологии» (так стали называть эту концепцию в противоположность экспериментальной — научной в собственном смысле слова — психологии), так как оставляет широкое поле для произвольных истолкований и всякий раз — в том именно духе, какой требуется для поддержания теоретического реноме доктрины.